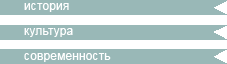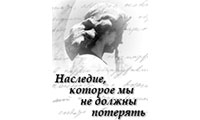Русские в довоенной Латвии
Татьяна Фейгмане
Глава I. Русские депутаты в I Сейме (продолжение)
Однако согласия среди русских парламентариев не было, и зачастую виной тому были не столько принципиальные идейные расхождения, сколько стремление, пользуясь депутатским мандатом, укрепить свои личные позиции в обществе. Бесспорно, это не способствовало успешной работе. В мае 1923 г., на годичном собрании крупнейшей в то время русской общественно-политической организации - Национально-демократического союза, с докладом о работе русских депутатов выступил А.С.Бочагов. Он отметил наличие контакта и согласованности в действиях меньшинственных депутатов, в то же время он упрекнул М.А.Каллистратова, что тот вносит смуту в русские ряды. Свой же выход из фракции он пытался объяснить тактическими соображениями. В ответ тотчас слово взял М.А.Каллистратов, попытавшийся было разъяснить свою позицию в спорном вопросе о кандидатуре начальника Русского отдела. Однако речь его оказалась не по душе большинству участников собрания, и он был лишен слова .(112). Хотя собрание и приняло резолюцию, призывавшую депутатов к объединению в одну фракцию, было ясно, что она вряд ли будет претворена в жизнь. Напротив, русская общественность все более втягивалась в конфликт между депутатами, главными персонажами которого были, с одной стороны - П.А.Корецкий (и сочувствовавший ему А.С.Бочагов), с другой - М.А.Каллистратов. В феврале 1925 г., когда развернулась решительная схватка по вопросу культурно-национальной автономии, и не за горами были уже выборы в новый Сейм - газета Сегодня писала: "Перед русским меньшинством в Латвии, как и перед другими меньшинствами, сейчас стоит ряд важнейших политически-общественных задач, которые требуют энергичной и дружной работы, как русских представителей в Сейме, так и всех общественных организаций. Что же мы видим в действительности? Между русскими депутатами и русской общественностью существует совершенно недопустимая рознь, идет чуть ли не борьба. Депутаты открыто не считаются с пожеланиями и настроениями общественных организаций, а последние не видят в депутатах своих представителей" (113). Таковы были реалии русской общественно-политической жизни.
Пожалуй, наиболее отчетливо "лицо" русских избранников проявилось в двух эпизодах. Во-первых, в 1924 г. в ходе споров о том, кто должен занять место начальника Русского отдела Министерства образования (прерогатива выдвижения кандидатур на эту должность принадлежала русским депутатам). Для русских это был немаловажный вопрос, так как от начальника названного отдела зависела не только постановка школьного дела, но и субсидирование русских культурных начинаний. Летом 1924 г. П.А.Корецкому с участием А.С.Бочагова удалось отстранить с этой должности профессора И.Ф.Юпатова и добиться назначения своего ставленника Ф.Н.Серкова. Это решение с неодобрением было встречено в русских кругах, особенно среди учительства. Поступок Корецкого с назначением Серкова и увольнением Юпатова возбудил против него всю русскую общественность, - отмечалось в донесении Политической полиции. - Отчасти и на правительство возлагается вина за это, ибо неизвестно из каких соображений оно пошло навстречу Корецкому, хотя и в печати и в ряде гласных заявлений, все до одного русские общества высказались за недопустимость осуществления его требований. Чуя опасность для себя, Корецкий поступает под защиту правительства, играя на щекотливых струнах якобы антилатвийской политики русских организаций (114). В противовес своим коллегам, М.А.Каллистратов боролся за возвращение И.Ф.Юпатова на этот пост и, в конечном счете победа оказалась за ним.
Во-вторых, благодаря все тем же П.А.Корецкому и Ф.Н.Серкову, в начале 1925 г. вспыхнул конфликт вокруг того, какой из двух действовавших в то время русских театров признать меньшинственным. Театр Русской Драмы работал в Риге с 1921 г. Он был основан как частная антреприза М.Муратова и А.Гришина и успел снискать любовь зрителей. Между тем, в 1924 г. в Ригу приезжает известная русская актриса Е.Рощина-Инсарова и создает здесь свой Камерный театр. Государственная же субсидия выделялась из расчета на один театр. На заседании Совета Русского отдела 24 января 1925 г. 6 голосами за при 3 против национальным театром русского меньшинства был признан Камерный театр (115). Субсидия оказалась поделенной между двумя русскими театрами и недостаточной как для первого, так и для второго. Русский отдел принял это решение, несмотря на протест Русского национального объединения (РНО) - крупнейшей русской общественной организации, возникшей после реорганизации НДС. Ни для кого не было секретом, что данное решение опять же было инициировано П.А.Корецким. Показательной была реакция Сегодня, считавшей нужным иронично заметить, что подобными действиями П.А.Корецкий пытается продемонстрировать свой особый национализм с тем, чтобы привлечь к нему сердца истинно русских кругов, а Серков только покорно выполняет его волю (116). Вне сомнений, симпатии газеты были не на стороне П.А.Корецкого. В то же время М.А.Каллистратов был непреклонен в своей поддержке Русской Драмы. В конце концов, поражение А.С.Бочагова и П.А.Корецкого на выборах в Сейм повлекло перемены в руководстве Русским отделом. В конце 1925 г. Русской Драме возвращается статус национального театра (117). Камерный театр прекращает своё существование, а Е.Н.Рощина-Инсарова навсегда покидает Ригу.
Несомненно, эти два эпизода сыграли немаловажную роль в дальнейшей судьбе русских депутатов. Если русская общественность отвернулась от П.А.Корецкого и А.С.Бочагова, и закат их политической карьеры был предрешен, то в случае с М.А.Каллистратовым случилось обратное. Русское общество наконец-то заметило энергичного провинциала. Уже в начале своей карьеры М.А.Каллистратов сумел показать себя человеком, стремившимся идти в ногу со временем. Своим поведением он ломал стереотипы о старообрядцах как о людях, замкнувшихся в своем кругу, не приемлющих новаций. Он отказался от традиционной для старообрядцев бороды, за что не раз упрекался своими единоверцами. Примечательно, что еще в начале 20-х годов Каллистратов перешел на новую орфографию, чем выделялся среди многих русских латвийцев, упорно продолжавших пользоваться "ятями" и "ижицами". Хотя М.А.Каллистратов и не отличался особой религиозностью, он, тем не менее, считал своим долгом защищать не только интересы старообрядцев, но и православных. Все это снискало ему симпатии и уважение. И в отличие от его коллег по I Сейму его карьера только начиналась.
Еще в ходе работы I Сейма стало очевидным, что на следующих выборах расстановка русских политических сил претерпит заметные изменения. Вместе с тем, согласно агентурным данным Политуправления, в русской среде не было лица, которое могло бы быть выставлено на выборах в качестве представителя русских интересов. В виду полного отсутствия лиц с прочным политическим стажем, с популярным именем и понятными русским лозунгами - русское общество испытывает тревогу, в нем раздаются голоса о целесообразности блока с евреями (118). Однако до этого дело не дошло. В канун выборов в Рижскую городскую думу (28 февраля 1925 г.) правление Русского национального союза (РНС) сочло нужным заявить, что партия Русский трудовой союз (119) А.С.Бочагова и Русская трудовая партия (120) П.А.Корецкого причинили тяжелый ущерб интересам русского населения, возбудили раздор не только между православными и старообрядцами, но и внесли смуту в православное население. К тому же, по мнению РНС, названные деятели совершенно не считались с русской общественностью (121). В итоге, на выборах в Рижскую думу списку А.С.Бочагова, как и старообрядцам, удалось получить по 1 месту. Список же Русских общественных организаций завоевал 2 мандата (122). Эти выборы, вероятно, дали толчок к созданию совершенно нового политического объединения - Блока православных избирателей и общественных организаций. Возглавил его глава Православной церкви Латвии архиепископ Иоанн (Поммер), которому суждено было стать заметной фигурой не только в церковных, но и политических кругах.
Судя по тому, что инициатором нового блока выступил РНС, организация явно правого толка, особых сомнений в ориентации этой группировки не было. Анализ списков, выставленных Блоком православных избирателей и общественных организаций по Риге и Латглии показывал, что в них преобладали главным образом представители рижской русской интеллигенции. Однако блок оказался не столь монолитным, как это могло показаться на первый взгляд. Из собственноручных показаний Б.В.Евланова (123), написанных им в 1940 г. в застенках НКВД, видно, что среди его участников имелись разногласия. Хотя более прогрессивной части русских не нравилось, что список возглавляет Иоанн Поммер, она все же решила принять участие в этом блоке в надежде, что удастся провести и своего кандидата, на что при самостоятельном выступлении не было бы никакой надежды, - отмечал Б.В.Евланов. - "Так как блок предполагал выступить с кандидатским списком не только в Риге, но и в Латгалии, то прогрессивные участники этого блока главное внимание решили обратить на Латгалию, на избирателя-крестьянина, так как в Риге среди русских господствовали преимущественно правые настроения. При базировке на крестьянина естественно напрашивалась избирательная платформа, сходная с платформой Крестьянской России (124), которую мы с небольшими изменениями и приняли" (125). При содействии Крестьянской России, руководство которой располагалось в Праге, в Риге, в канун выборов во II Сейм, под редакцией Б.В.Евланова увидели свет 7 номеров газеты Новь. О политической направленности этого издания и ее издателей можно судить по передовой статье "Наши задачи" (в какой-то мере это была первая попытка переложить идеи крестороссов применительно к латвийским условиям). Вне сомнений, крестороссы и их приверженцы в Латвии являлись поборниками республиканского строя. Более того, Б.В.Евланов и его единомышленники, ставили ударение на соблюдение демократических принципов, сознавая их значимость для русского меньшинства в Латвии. "Рука об руку со всеми искренними демократами Латвии будем стремиться к тому, чтобы в нашей стране не было национальностей господствующих и подчиненных, но чтобы все они были равны и пользовались одинаковыми правами <...> Живя в одном государстве с народами других национальностей, будучи духовно и экономически связанными с ними, мы хотим и будем внимательно считаться и сообразовываться с их интересами и потребностями, уважать особенности их культуры"(126). На передний план выводилась мысль, что крестьянство - это фундамент Латвии, которая может быть сильной лишь в случае, если не будут забыты нужды русского крестьянства. Помочь же крестьянской нужде можно лишь постоянным и активным представительством крестьянских интересов в политике государства (127). Забегая вперед, надо заметить, что латвийским последователям крестороссов в ходе выборов во II Сейм не удалось завоевать симпатии русских землепашцев. И все же им удалось провести в Сейм Е.М.Тихоницкого - человека близкого им по взглядам.
Примечательной особенностью предвыборной агитации Православных избирателей, группировавшихся вокруг архиепископа Иоанна, явилась проповедь толерантности в отношениях между русскими и латышами. Ничего удивительного в этом не было, так как Православная церковь Латвии объединяла не только русских, но и часть латышей, на голоса которых и рассчитывала группировка И.Поммера, который сам был латышом. Поэтому в предвыборной листовке подчеркивалось, что "травлею и угрозами латышам и Латвии, проповедью недоверия к латышам нельзя заставить латышей отнестись с доверием и уважением к русскому меньшинству" (128). Таким образом, указанный список и по своим идейным установкам и по персональному составу был весьма неоднородным.
5 апреля 1925 г. в Резекне состоялся 1-й съезд Русских волостных деятелей Латгалии, знаменовавший появление новой политической силы, делавшей ставку на православное латгальское крестьянство и пытавшейся опереться на популярные в недавнем прошлом земские идеи. На съезде из уст одного из его лидеров - Л.В.Шполянского, прозвучала, между тем, резкая критика по адресу социал-демократов, которые, по его словам, попав в Сейм, благодаря голосам русских крестьян, проводят национальную политику мало чем отличающуюся от буржуазных партий (129). Это заявление свидетельствовало о решимости новой группировки побороться за русские голоса с социал-демократами.
Итак, в ходе предвыборной кампании во II Сейм конфигурация русских политических сил приобрела новые очертания. Как и следовало ожидать, раскол не был преодолен. По этому поводу, в канун выборов в Сегодня появилась пространная статья "Меньшинственные списки". В ней отмечалось, что все русские политические организации в Латвии мало чем отличаются в своих программах и тактике. "Все они стоят на почве существующего государственного строя, все они выдвигают на первый план интересы культурно-национальной автономии. Все за единство русского населения вне зависимости от религиозных оттенков. Все они далеки от социализма, хотя и признают необходимость определенных социальных реформ. Даже аграрный вопрос не разделяет русские политические группы <...> Но какой-то рок тяготеет над деятельностью русских организаций в Латвии" (130), - заключала Сегодня. На эту же тему появилась статья и Б.В.Евланова в упомянутой газетке Новь. В ней подчеркивалось особое значение участия русского населения в голосовании. "Прошло уже более пяти лет самостоятельного существования Латвии, - отмечал автор, - а русские все еще продолжают оставаться на положении каких-то пасынков, граждан второго сорта. И в том, что к нам относятся с пренебрежением, что русских обходят при каждом удобном и неудобном случае, что с нашими нуждами не считаются, - во всем этом виноваты только мы сами, русские" (131). Однако структуризация русских политических сил находилась еще в самой зачаточной стадии. Поэтому превратить желаемое в действительное оказалось непосильной задачей.
Содержание
- Введение
- Примечания к введению
- Глава I. Русские в Народном совете и Учредительном собрании
- Глава I. Русские в Народном совете и Учредительном собрании (продолжение)
- Глава I. Русские депутаты в I Сейме
- Глава I. Русские депутаты в I Сейме (продолжение)
- Глава I. Русские депутаты во II Сейме
- Глава I. Русские депутаты во II Сейме (продолжение)
- Глава I. Русские депутаты в III Сейме
- Глава I. Русские депутаты в III Сейме (продолжение)
- Глава I. Русские депутаты в IV Сейме
- Глава I. Русские депутаты в IV Сейме (продолжение 1)
- Глава I. Русские депутаты в IV Сейме (продолжение 2)
- Глава I. Русские и диктатура Карлиса Улманиса
- Глава I. Русские и диктатура Карлиса Улманиса (продолжение)
- Примечания к первой главе
- Примечания к первой главе (2)
- Глава II. Русские общества и их роль в сохранении национальной самобытности
- Глава II. Общества с политическими и объединительными целями
- Глава II. Русские культурно-просветительные общества
- Глава II. Общества поддержки русского театрального дела
- Глава II. Русские профессиональные общества
- Глава II. Благотворительные общества
- Глава II. Старообрядческие общества
- Глава II. Эмигрантские общества
- Глава II. Cокольские общества
- Глава II. Студенческие и молодежные организации
- Глава II. Общества социал-демократической ориентации
- Примечания ко второй главе (1)
- Примечания ко второй главе (2)
- Глава III. Русское образование в независимой Латвии
- Глава III. Правовые аспекты положения русской школы в Латвии
- Глава III. Обязательное обучение
- Глава III. Среднее образование
- Глава III. Среднее образование. Русские гимназии
- Глава III. Русское профессиональное образование
- Глава III. Русские студенты в высшей школе
- Глава III. Русские в академических кругах Латвии
- Примечания к третьей главе
- Заключение
- Приложения