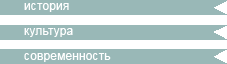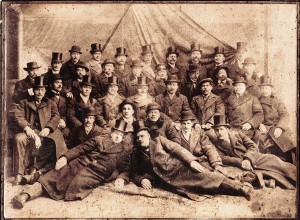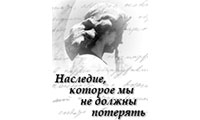«И что мне проблемы Рафальского?»
Елена Слюсарева
4 октября 2012 («Вести Сегодня» № 153)
Размышления латышского патриота — о справедливости, о родине, о русских…
 "Мне надоело быть политкорректной. Я вижу, что слово "национализм" уже страшит многих представителей интеллигенции, и мне это очень обидно. Ведь настоящий смыл этого слова в том, чтобы быть латышом", — заявила в своем недавнем интервью газете "Латвияс aвизе" известная представительница этой самой латышской интеллигенции, доктор искусствоведения, завлит Национального театра Иева Струка.
"Мне надоело быть политкорректной. Я вижу, что слово "национализм" уже страшит многих представителей интеллигенции, и мне это очень обидно. Ведь настоящий смыл этого слова в том, чтобы быть латышом", — заявила в своем недавнем интервью газете "Латвияс aвизе" известная представительница этой самой латышской интеллигенции, доктор искусствоведения, завлит Национального театра Иева Струка.Мы, разумеется, не могли оставить без внимания этот крик латышской души. Тем более что Иева Струка занимает и довольно весомые должности — возглавляет Coвет творческих союзов Латвии, является представителем Культурного альянса и членом совета Фонда культурного капитала.
На предложение обсудить проблему и по–русски Иева откликнулась охотно: "Это действительно был крик души. Мне надоело, что с высоких трибун у нас бурным потоком льется лицемерие. И мне уже совершенно непонятно, кто что говорит и что он в действительности думает. Но мало того что слова наших руководителей не совпадают с их делами и мыслями, так они свое лицемерие, цинизм выдают за норму. Мало ли что ему подсказывает совесть — дисциплина партии для него святое. Называть вещи своими именами уже просто неприлично — неполиткорректно! Вовсю идет манипуляция словами, а ситуация в стране очень серьезная.
— Это нехватка денег культуре привела вас к таким мыслям?
— Не только. Фундамент латышской культуры держится на сельских традициях, на связи с природой, но села наши пустеют на глазах. И если мы продолжим этого не замечать, то скоро рухнет вся наша культура. Так что сохранение села — это вопрос сохранения нации. Поэтому мне как главе Совета творческих союзов Латвии приходится говорить о культурной политике в более широком значени, иногда я не выдерживаю и становлюсь неполиткорректной. Потому что мне хотя бы должность дает возможность быть услышанной, простой же человек с похожими своими мыслями в СМИ вообще не пробьется.
— Не боитесь? Учитель Рафальский, который позволил себе "неполиткорректность", подвергается жестокой травле сильных мира сего.
— Это одно из самых страшных последствий прошлого, которое мы до сих пор не можем преодолеть — страх. Раньше режим запрещал нам быть свободными, и все боялись высказываться. Теперь наступила свобода, но мы все равно боимся.
— Значит, не такая уж она и свобода.
— Это во–первых. Плюс цензура. Было бы честнее тогда прямо сказать, что не всё свобода и не для всех. И тогда каждый выберет, соглашаться ему с этими правилами и оставаться здесь или уезжать. Насчет Рафальского — я не уверена, что ненависть к государству украшает учителя. Кто угодно мог говорить то же самое — политик, журналист, но не учитель.
С другой стороны, равноценную фразу — "Мы любим эту землю, но ненавидим это государство" — несколько лет назад произносили несколько латышских ребят. Поднялся шум, многие осуждали, но никто не сомневался в том, что они имеют право здесь жить. У нас очень много коренных жителей, которые нелояльны политике правительства и прямо об этом говорят — может быть, политикам стоит и на это обратить внимание, то есть услышать их?
— То, что можно латышу, русскому запрещается. И все молчат — кучка националистов со своей воинствующей идеологией подчинила все общество.
— Думаю, молчат люди просто от равнодушия. Вот сижу я здесь с вами, в театральном подвале, и что мне проблемы Рафальского? Как они отразятся на моей работе, на зарплате? И мне будет все равно до тех пор, пока я сама не столкнусь с похожей проблемой или не смогу свободно высказываться.
— Я читала вашу статью про Михаила Чехова, которого Латвия бурно встречала в 1932 году и который очень много сделал для развития латышского театра. А в 1934–м он тихо уехал отсюда из–за провинциального ультранационализма, который делал невозможным свободу творчества. Причиной вы назвали "майзес найдс" — ненависть к тому, кто лишает тебя куска хлеба. То же, что культивируется сейчас?
— Конечно, а что изменилось? Проблема конкуренции во всех сферах даже усугубилась, и не без помощи политиков. Вместо того чтоб защищать свою экономику, они бросили ее плавать в свободный рынок. Так на них меньше ответственности, но и самостоятельности тоже меньше у страны. И долгосрочных целей мы не видим.
— Наверное, сомневаться в успехах Латвии тоже нельзя, нам же говорят, что мы успешно вышли из кризиса. Вы в театре это чувствуете?
— Люди ходят в театр, но, думаю, далеко не все, кто хотел бы. За последние годы мы очень постарались изуродовать все лучшее, что было в нашем образовании. Чтоб люди разучились мыслить. Чем ниже квалификация, тем меньше вопросов, и это мы в театре чувствуем хорошо. Когда человек озабочен одной мыслью, о выживании, разве он купит книгу или билет в театр? Любой политик за банан склонит его на свою сторону, необразованным человеком легко манипулировать. Поэтому, если не решить проблемы образования, Министерство культуры можно закрыть — оно никому не будет нужно. И что мне до того, что русские дети не знают Блауманиса, если его не знают сами латыши! Пусть русские учат хотя бы "своего" Пушкина, важно, чтоб дети хорошо знали свою родную культуру. Тогда они будут способны ценить чужую и вообще мыслить.
Если люди будут терять свою культурную самобытность, мир утратит свою полноту и краски, все будут на одно лицо. Поэтому я оправдываю национализм, когда это гордость за свою культуру, свою родину. Ультранационализм, шовинизм к этому отношения не имеют, это совсем другое.
— А говоря о латышской культуре, при царском режиме и советской власти она как раз развивалась лучше всего.
— Да, и то, что латышское независимое государство этого не понимает, его самая большая ошибка. Авторитарные режимы всегда поддерживают национальные культуры, потому что знают, насколько это большая идеологическая сила.
— Как много латышей поддерживают вашу "неполиткорректность"?
— Не знаю, не уверена, что моя точка зрения популярна. Латыши теперь делятся на две части: одна — в основном молодые люди — либеральные настолько, что вообще равнодушны к этому государству. Их родина — глобализированная Европа и весь мир, они по–английски читают лучше, чем по–латышски. Другая часть надеется на просветление в умах правительства. И видит в этом некоторый прогресс, ведь в кризис–то Латвию завели другие деятели — из Народной партии, Первой, "Латвияс цельш", а нынешние все же более честные.
— Да, но заметьте, тех, кто "довели", сами же избиратели и послали на повышение в Европарламент: Шадурскис, Годманис…
— Да, потому я поддержала роспуск парламента, что многие из депутатов решили, что вообще родились в сейме. И когда привычные кресла под ними зашатались, были вынуждены хотя бы проснуться. Но все равно зашоренность и близорукость остается характерной чертой наших политиков. Недавно премьера на одной дискуссии долго пытали, как Латвия чисто гипотетически собирается отдавать долги, когда население отсюда выезжает, остающиеся вымирают, дети не рождаются. Но он твердил, как заклинание, одно: "Все равно долги надо отдавать". Надо, но ведь некому!
— Не кажется ли вам, что последний шанс, который может использовать Латвия, — начать доверять русским?
— С одной стороны, это так, тем более что русские, в основном молодые ребята, которые, например, связаны с театром, прекрасно говорят по–латышски, и мы вместе работаем без проблем. С другой стороны — латышами руководит исторически создавшийся страх от экспансии любой большой нации. Помню, в 1989 году, когда в Даугавпилсе жило 11 процентов латышей, я не слышала там ни слова на латышском, а теперь латышей там 15–17 процентов, и в городе все–таки слышна латышская речь.
— Значит, как минимум, негражданам можно разрешить выбирать муниципалитеты?
— Я думаю, препятствие к этому только одно: если русским разрешить участвовать в выборах, они могут принять решение Латгалии отделиться от Латвии. И что, скажите, делать, если 90 процентов населения высказались бы против существования Латвии и захотели бы — чисто теоретически — присоединиться к Эстонии?
— Демократический принцип таков: действовать в соответствии с выбором народа: если 90 процентов населения не хочет этого государства, какой смысл искусственно его поддерживать?
— У меня другой ответ: просто правительство должно так править государством, чтоб у его жителей не было желания присоединяться к другой стране. И в начале 90–х надо было иначе действовать в отношении тех русских, которые поддержали независимость Латвии. Хоть это и нелегко, но надо было найти способ отделить лояльных от нелояльных. Это же живые люди, которых нельзя было обижать.
— Может, государство вообще не должно строиться вокруг таких эфемерных понятий, как лояльность? Ее же линейкой не измеришь, и, значит, велика вероятность, что обыкновенные обманщики будут в числе "патриотов".
— Не должно быть разницы между русскими, латышами, поляками, но мерило же должно быть какое–то. Иначе как отличать добропорядочных граждан от других?
— Очень просто: если человек соблюдает законы, честно работает и платит этой стране налоги, он лоялен. И больше никому ничего не должен доказывать.
— Может быть, но это очень сложный вопрос. Ведь лояльность есть и твои знания государственного языка.
— А странно все–таки, что латышей не заинтересовал тот факт, что все русские граждане, включая прекрасно говорящих по–латышски молодых людей, единодушно поддержали референдум за русский государственный. Никто не попытался их понять, а вы увидели причину в том, что "наивные и прощающие латыши сами допустили референдум".
— Я не уверена, что единодушно, но понимаю, что главным образом это был вопрос принципа. Но проблема маленьких государств заключается в том, что они зависят от больших держав, которые должны чувствовать свою ответственность, потому что они больше и сильнее. Я как–то ездила на Байкал и по возвращении стала показывать знакомым на карте, как далеко я была: Урал, Сибирь, а потом никак не могла найти Латвию. Оказалось, она у меня под большим пальцем. Ну разве мы не зависим от больших наций и не должны защищать свои интересы? Ведь ясно же, что официальные права русскому языку, вообще любому большому языку (не сомневаюсь, что скоро уже придет время референдума об официальном статусе английского языка) просто задушат латышский. Ну неужели так трудно это понять?
— Так ведь латыши не хотят, чтоб русские его выучили. Конкуренция: когда латыш с хутора приезжает в Ригу, устраивается работать чиновником, он не знает русского и начинает учить его прямо на работе, просит, чтоб русские говорили с ним по–русски. Логично: работа — это мощная мотивация. Но когда русский не знает латышского, его вообще не берут на работу. И даже того, кто давно работает — в аптеке, магазине, тюрьме, школе подвергают экзаменам, штрафуют за недостаточное знание и увольняют. Вот вам разница подходов и разные, естественно, результаты.
— Я согласна, что политика интеграции, которая проводилась в 90–е, не была правильной, но вы сами только что указали на разницу подхода: у латыша есть мотивация учить русский язык, у русского учить латышский — нет. Но вот как я учила русский: когда мне было 12 лет, я целый месяц лежала в больнице. Там было девять русских медсестер и только одна латышка. И мне, чтоб высказать свои потребности, пришлось перебороть барьер и начать говорить по–русски. Да, я выучила язык, но с другой стороны, разве маленький латышский ребенок должен был знать иностранный язык?
— И потому вы хотите, чтоб русские дети переживали то же самое?
— Нет, ни в коем случае! Разве с ними не говорят в больницах по–русски?
— В том–то и дело, что далеко не всегда, русский язык ведь иностранный и, значит, на усмотрение доктора. Но нам как раз чаще всего на языковую дискриминацию жалуются при обслуживании детей — они ж не могут за себя постоять.
— Я считаю, ребенок никогда не должен страдать, но надо говорить о конкретных случаях и конкретных людях. В целом же это не столько вопрос знания языка, сколько вопрос толерантности и культуры. А к этому у нас в государстве серьезно не относятся.