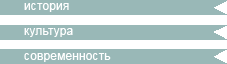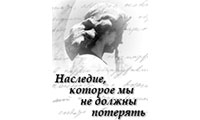ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ в рижском учебном округе накануне первой мировой войны
Виктор Гущин
К началу XX в. стало очевидно, что политика жёсткого ограничения или даже запрета обучения в школе на родном языке учащихся наносит серьёзный ущерб не только качеству образования, но и межнациональным отношениям. Поскольку инициатором проведения этой политики выступало Российское государство, критика со стороны немцев, латышей и эстонцев высказывалась как в адрес местных, так и в адрес центральных властей. По этой причине уже в 1905 году начался процесс либерализации языковой политики в Прибалтийском крае – здесь стали открываться школы с латышским, эстонским и немецким языками обучения.
Летом 1905 года Рижская городская дума передала «на Высочайшее благовоззрение виды и предположения города об усовершенствовании Государственного благоустройства и улучшении народного благосостояния». По народному образованию было сказано: «чтобы в городских низших учебных заведениях, смотря по потребности населения, обучение производилось на русском, немецком или латышском языке, причём изучение государственного языка должно было бы соответствовать во всех городских училищах важности сего учебного предмета».
В поддержку данного предложения говорилось: «Не подлежит сомнению, что успешное обучение детей возможно лишь при употреблении родного языка. В настоящее же время, в противность этому общепризнанному педагогическому правилу, русский преподавательский язык обязателен для всех без исключения городских училищ.
Вследствие такой меры для преобладающего числа детей изучение государственного языка сделалось главным предметом, тогда как усвоение общих научных познаний, равно и религиозно-нравственное воспитание отодвинулось на второй план, так что главная цель всякого воспитания не достигается. Введение вновь родного языка в городских училищах отнюдь не представляло бы препятствий к предоставлению, посредством соответствующих учебных программ, государственному языку, как учебному предмету, подобающего ему важного значения»1.
18 июня 1905 года Николай II утвердил решение Комитета Министров, которое в отношении школ в Прибалтийском крае гласило:
«... в отношении Прибалтийского края с особой настоятельностью следует подтвердить высказанное уже Комитетом Министров положение, что нельзя из школ делать орудие искусственного проведения обрусительных начал и что учебные заведения должны прежде всего преследовать цель образования детей и юношей, согласно потребностям местного населения, и внедрения в них добрых нравов. Таковое может быть надлежащим образом поставлено лишь в том случае, если в школах будет обеспечено должное место природному языку учащихся. Для достижения этого местному наречию, как наиболее ценному достоянию народа, им пользующегося, должно быть отведено соответствующее количество уроков. Этими же языками, как способом обучения, должно пользоваться в достаточно широких размерах, так как только при помощи его возможно разъяснить детям преподаваемые предметы и достичь усвоения их»2.
Основываясь на данном решении Комитета Министров, Попечитель Рижского Учебного Округа Дмитрий Михайлович Левшин в своём циркуляре от 9 октября 1906 года, за № 8946, разрешил, «до выработки оснований реформы низшей школы в Прибалтийском крае и до её введения в жизнь, во всех начальных школах, сельских и городских, губерний Курляндской, Эстляндской и Лифляндской в первые два года, при однородном составе учащихся (однородном в смысле национальности), вести преподавание всех предметов, кроме преподавания государственного языка, на природном языке учащихся»3.
Вскоре после этого в местностях с преобладающим русским, латышским или немецким населением были открыты школы с русским, латышским или немецким языками обучения соответственно. В местностях, где национальный состав населения был смешанным, открывались школы и с тем, и с другим языком обучения.
При этом в Риге в 1905 году классов с русским языком обучения было открыто 50, с латышским языком – 28, с немецким языком – 7, тогда как процентное соотношение учеников было следующим: русских – 15 процентов, латышей – 68, немцев – 174.
Как отмечалось в докладной записке Рижского Городского Головы Вильгельма Роберта фон Бульмеринга новому Попечителю Рижского Учебного Округа А.И. Щербакову от 26 октября 1913 года, «дело было таким образом улажено; обучение шло успешнее, чем раньше, и общий интерес городского населения к школьному делу возрос значительно. Хотя и не все пожелания были осуществлены, но население чувствовало отзывчивое отношение к себе в деле, столь близко его затрагивающем»5.
К 1913 году в Риге общее количество учебных классов увеличилось до 170, т.е., по сравнению с 1905 годом, стало больше на 86 учебных классов6.
В Курляндской губернии Либавская* городская дума на своём заседании 29 ноября 1912 года постановила учредить в Либаве на средства города два новых начальных училища: одно для мальчиков и другое для девочек. При этом городская Управа уточнила, что «означенные училища предназначены ею для детей латышской национальности, т.е. в течение первых двух лет обучения преподавание в этих училищах всех предметов, кроме государственного языка, будет вестись на латышском языке»7.
Ранее, т.е в 1909 году, Либавская городская управа уже возбуждала ходатайство об открытии на средства города новых начальных училищ с преподаванием в них в первые два года на местных языках, т.е. на латышском и немецком. Управление Рижского Учебного округа не препятствовало открытию этих училищ, но при этом делало оговорку, что преподавание на местных языках допускается временно, «впредь до разъяснения Министерством Народного Просвещения возбуждённого управлением Округа в 1909 году вопроса о преподавании в начальных училищах на родном языке учащихся»8.
Новый Попечитель Рижского Учебного Округа камергер С.М. Прутченко направил 7 января 1910 года в Министерство Народного Просвещения проект документа об отмене циркуляра статского советника Д.М. Левшина. Но со стороны Министерства Народного Просвещения по этому заявлению не последовало никакого распоряжения.
В этой ситуации, учитывая повторное ходатайство Либавской городской Управы об открытии двух начальных училищ с преподаванием предметов в первые два года на родном языке учащихся, сменивший С.М. Прутченко профессор Алексей Иванович Щербаков (1858-1944, в должности Попечителя Рижского Учебного Округа с 18 марта 1913 г. по 1917 г.) обратился за руководящим указанием в Министерство Народного Просвещения.
Ответ министерства от 20 августа 1913 года, за подписью члена Совета Министра Пфаффиуса, гласил: «Вследствие сего уведомляю Ваше Превосходительство для соответственных распоряжений по означенному ходатайству Либавской городской думы и для руководства в подобных случаях, что по вопросу о языке преподавания в начальных училищах вверенного Вам Учебного Округа надлежит строго придерживаться подлежащих статей закона, именно статьи 3640, пункт XI, часть I, Устава учебных заведений и примечания 2 к этой статье (от 1906 года), согласно коим во всех классах учебных заведений Прибалтийских губерний на природном языке учащихся должно производиться преподавание Закона Божия, церковного пения и местных языков; при обучении же в одноклассных и первых классах прочих начальных училищ Рижского Учебного Округа допускается, в соответствии с потребностями местного населения, пользование, кроме русского языка, природным языком учащихся»9.
Ещё 5 июня 1913 года, т.е. более чем за два месяца до письма, направленного А.И. Щербакову, Министерством были приняты Правила о начальных училищах для инородцев, пункт 4 которых гласил: «Преподавание родного языка производится на том же языке, преподавание других предметов производится также на родном языке учащихся в первые два года обучения в одноклассных и в первых классах двухклассных училищ, если до истечения двухлетнего срока учащиеся не окажутся в состоянии воспринимать преподаваемые им предметы на русском языке. С начала третьего года обучения преподавание русского языка и арифметики, а в двухклассных училищах всех остальных предметов должно производиться на русском языке. Обучение русскому языку в училищах для инородцев надлежит начинать не позже третьего месяца первого года обучения»10.
Отмена циркуляра Д.М. Левшина
Хотя Правила о начальных училищах для инородцев от 5 июня 1913 года и письмо министерства народного просвещения от 20 августа 1913 года, за подписью члена Совета Министра Пфаффиуса, никак не указывали на отмену действия циркуляра Д.М. Левшина от 9 октября 1906 года, А.И. Щербаков 27 августа 1913 года объявил, что действие упомянутого циркуляра утрачивает силу. А 12 ноября того же года он созвал совещание, целью которого было обосновать отмену действия циркуляра Д.М. Левшина. В совещании участвовали окружные инспектора Рижского Учебного Округа П.М. Колесников и Г.Л. Буковицкий, директора народных училищ: Лифляндской губернии – П.Г. Руцкой, Курляндской губернии – И.В. Момот, Эстляндской губернии – И.И. Роговинников, а также инспектора народных училищ: Якобштадского района – К.П. Талантов и Рижского I-го уездного района – М.К. Третьяков.
Какие аргументы в поддержку решения отменить действие циркуляра Д.М. Левшина были приведены на этом совещании? В протоколе совещания в качестве причин, побудивших принять данное решение, говорится о следующем:
«1. Применение на практике вышеупомянутого циркуляра статского советника Левшина уже с первого года по его введении стало причиной ряда явлений, противоречащих нормальному порядку школьной жизни. Так, в некоторых городах, например, в Риге, установился порядок разделения школ по национальностям, поддерживающие не объединение, а разъединение национальных групп, тем более, что иногда в таких школах, помещавшихся в одном и том же здании, искусственно устраняли для учащихся различных национальностей возможность общения друг с другом.
2. Зависимость преподавательского языка в школах от однородности состава учащихся, установленная тем же циркуляром, явилась причиной как бы случайности и большой неустойчивости этого языка в школах: стоило в какую-либо школу с однородным составом учащихся поступить ученику иной национальности, и местный язык должен был заменяться русским...
3. Разрешение преподавания в первые два года обучения, при однородном составе учащихся, на местных языках фактически было принято как обязательное условие, и русский язык в первые два года обучения таким образом остался в школах лишь в качестве учебного предмета.
Сильное понижение успехов учащихся по русскому языку уже на первом году по издании циркуляра от 9 октября 1906 года, за № 8649, в следующем 1907 году вызвало необходимость принять меры к повышению этой успешности (число уроков по русскому языку во всех трёх отделениях начальной школы было увеличено на 2 в каждом отделении: 10 вместо 8). Однако и эта мера оказалась недостаточной. К концу второго года обучения в школах познания учеников в русском языке были так слабы, что нельзя было и думать об успешном обучении на нём в третьем году...
4. В то же время родители, заинтересованные в доставлении своим детям правильного школьного обучения и в особенности в усвоении ими русского языка, польза и необходимость которого вполне сознаётся огромным большинством местного населения, стали отдавать своих детей в такие школы, где русский язык шире применялся при обучении...»
Из сказанного делался вывод, что, «по мнению совещания, из практики в местной начальной школе нельзя усмотреть, чтобы упомянутый циркуляр бывшего Попечителя Д.М. Левшина отвечал действительным потребностям местного населения. Допустив возможность устранения русского языка в первые два года обучения при необходимости в третьем году вести обучение исключительно на этом языке, упомянутый циркуляр способствовал сокращению выносимых из школы познаний, резкому падению успехов по русскому языку и вообще понижению образовательного значения местной начальной школы»11.
Протесты против отмены циркуляра Д.М. Левшина
Отмена А.И. Щербаковым действия циркуляра Д.М. Левшина от 9 октября 1906 года была воспринята немецким, латышским и эстонским населением как посягательство на их языковые права и права на сохранение собственной национальной идентичности. Протесты со стороны немцев, латышей и эстонцев не заставили себя ждать. Тем более, что это решение прямо противоречило решению Комитета Министров от 18 июня 1905 года о недопустимости в Прибалтийском крае политики «искусственного проведения обрусительных начал».
В Риге заявили о «ломке укоренившегося уже в населении порядка, ни с чьей стороны не возбудившего недовольства и дававшего лишь хорошие результаты... Предпринятая мера способна вызвать лишь глубокое недовольство среди населения и дать материал для пропаганды...»12.
Рижский городской Голова В.Р. фон Бульмеринг обратился к А.И. Щербакову с ходатайством «о восстановлении существовавшей за последние 7 лет постановки дела преподавания в первые 2 года обучения в Рижских городских начальных училищах...»13.
Либавский Городской Голова, действительный статский советник Альберт Иванович Вольгемут (1847-1915) в докладной записке министру народного просвещения Льву Аристидовичу Кассо (1865-1914, в должности с 29.09.1910 по 26.11.1914) от 30 ноября 1913 года указал на то, что «Высочайше утверждённое положение Комитета Министров от 18 июня 1905 года, осуждая преследование обрусительных целей в начальной школе, разъясняет статью 3640 в том смысле, что родному языку даются в одноклассных и первых классах начальных училищ те же права, как и русскому языку, в соответствии с потребностями местного населения», и высказал мнение, что «циркуляр Попечителя Рижского Учебного Округа А.И. Щербакова, как основанный на неправильном толковании Примечания 2 к статье 3640», должен быть отменён14.
Аналогичные по смыслу письма в адрес А.И. Щербакова и министерства народного просвещения направили также Микель Яков Кюд, уполномоченный Нидербартского волостного общества Гробиньского уезда Курляндской губернии (11 декабря 1913), Правление Рижского латышского общества (17 января 1914), Акционерное общество писчебумажной фабрики «Койль» Эстляндской губернии (27 января 1914), Городской Голова г. Тукумс (28 февраля 1914), Платонское волостное общество Добленского уезда Курляндской губернии (5 апреля 1914)15 и др.
Предводитель дворянства Курляндской губернии граф Владимир Евстафьевич Рейтерн, барон Нолькен 3 декабря 1913 года направил А.И. Щербакову письмо, в котором указал на то, что решение об отмене действия циркуляра Д.М. Левшина было принято без согласования с Высшей комиссией сельских народных школ Курляндской губернии16.
Вопрос о языке обучения в сельских школах стоял особенно остро, так как, в отличие от городских школ, в качестве языка преподавания здесь использовался преимущественно латышский язык.
При этом в разгоревшемся конфликте речь не шла о частных школах, поскольку использование местных языков в частных учебных заведениях уже регулировала статья 3741 Устава учебных заведений, примечание I от 1906 г., которая гласила:
«В губерниях Эстляндской, Лифляндской и Курляндской допускается преподавание на местных языках на следующих основаниях:
1) преподавание на местных языках допускается в тех только из означенных заведений, кои содержатся на местные средства, без всякого пособия из казны, а также из земских или городских средств;
2) русский язык, русская литература, а также история и география России должны преподаваться на русском языке;
3) для получения прав по образованию воспитанники частных учебных заведений подвергаются установленным испытаниям в соответственных правительственных учебных заведениях. Испытания эти по всем предметам, за исключениям Закона Божия, инославных исповеданий и природного языка испытуемого, производятся на русском языке»17.
Другими словами, реализуя своё право учиться на родном языке в частном учебном заведении, экзамены за школьный курс выпускники должны были сдавать на государственном, т.е. русском языке.
Но в том, что касается открытия частной школы с эстонским языком обучения при Акционерном обществе писчебумажной фабрики «Койль» Эстляндской губернии, то А.И. Щербаков в своём письме в Министерство Народного Просвещения заявил, что нет надобности в открытии частного фабричного училища, тем более с эстонским языком преподавания. Если же администрация фабрики продолжит настаивать на открытии своего частного училища, то это будет возможно лишь при условии русского языка обучения в означенном училище18.
Газета «Рижская мысль» об отмене циркуляра Д.М. Левшина
Решение А.И. Щербакова объявить циркуляр Д.М. Левшина от 9 октября 1906 года утратившим силу вызвал горячую полемику в местной русской прессе. Ряд публикаций был направлен на поддержку решения А.И. Щербакова, но в отдельных статьях выражался скепсис относительно данного решения. Наиболее показательной в этом смысле была статья в газете «Рижская мысль» от 5 октября 1913 года. Вот что в ней говорилось:
«Вопрос о языке преподавания в местной начальной школе продолжает занимать внимание печати и общества... В этом деле, для успешного хода начального образования и для удовлетворения, с одной стороны, требований государственности и потребностей самого населения в знании русского языка, с другой – национально-культурных стремлений местных жителей, необходимо идти путём целесообразного соглашения всех этих интересов. И такой путь был именно найден в допущении преподавания на родном языке в первые два года обучения. Порядок этот отвечал сущности дела и не находился в непримиримом противоречии с действующим законом...
Ясно, что главным побуждением при отмене прежнего порядка было не столько желание восстановить действие будто-бы нарушенного закона, сколько предположение, что новый порядок лучше обеспечит охрану интересов государственности в начальной школе. В связи с этим появились указания, что при прежнем порядке обучение русскому языку в начальной школе шло неудовлетворительно, что крайне труден был переход к русскому преподаванию в третьем году после двухлетнего обучения на родном языке...
Мы уверены, что русское просвещение, русская культура и без таких ограничительных мероприятий способны привлечь к себе местное население... Не надо только чрезмерным усердием, не вызываемым необходимостью, мешать успешному развитию этого естественного при данных обстоятельствах культурного тяготения»19.
Газета «Dzimtenes Vēstnesis» о языковой политике
Газеты на латышском языке были единодушны в своей негативной оценке решения А.И. Щербакова отменить циркуляр Д.М. Левшина.
10 декабря 1913 года в газете «Dzimtenes Vēstnesis» была опубликована статья под названием «Политика и мораль», в которой анализировалась языковая политика, проводимая Россией в школах Прибалтийского края после 1887 года. Автор статьи при этом указан не был, из чего можно сделать вывод, что статью подготовили в самой редакции.
В статье, в частности, говорилось:
«Озирая весь период весь период времени с 1887 года своим духовным взором, вы напрасно будете искать нравственные принципы, вы напрасно будете искать даже внешние педагогические приличия. Всё наполняет и обнимает один-единственный лозунг – руссификация...
С многократно упоминаемым текущей осенью циркуляром Левшина было установлено известное примирение общества с системой руссификации. Хотя означенный циркуляр чрезвычайно мало хорошего давал нашей народной школе, всё же наступил мир и терпеливое ожидание лучших школьных законов. Но школьной бюрократии такой мир был неприятен. Уже во времена Прутченко постоянно твердили, что русский язык в опасности, поскольку детей учат на родном языке...
Что в последнее время школьные бюрократы решали и делали – это не закон, это только характеризует их, показывает их невежество в педагогической науке и в знании нужд местных жителей, их жестокость к нашим детям, безразличное отношение к судьбе той школы, которая им "вверена"...»20
Языковой вопрос в Государственной Думе
11 июня 1914 года вопрос «по поводу незакономерных действий заменявшего Министра Народного Просвещения, члена Совета Пфаффиуса, Попечителя Рижского Учебного Округа Щербакова и некоторых подчинённых ему лиц» обсуждался на заседании Государственной Думы.
Депутат Государственной Думы от Лифляндской губернии Рамот, сославшись в своём выступлении на положительные примеры в смысле качества образования при обучении в начальных училищах на родном языке учащихся, отметил, что «если поступившему в школу ребёнку начать преподавать незнакомый ему предмет на незнакомом ему языке, то это в высшей степени трудно, и результаты при этом получаются ничтожные. При таком способе преподавания ученики механически усваивают небольшое количество русских слов и фраз и по выходе из школы очень скоро забывают их. Инспектора народных школ при ревизии обращают внимание только на знание русского языка, других предметов обыкновенно совершенно не спрашивают. Понятно, что полученные таким механическим способом обучения результаты не имеют никакого значения для общего развития детей как в интеллектуальном, так и в нравственном отношении».
Мнение депутата Рамота полностью поддержал депутат князь Мансырев (г. Рига), который указал, что благодаря претворению в жизнь циркуляра Д.М. Левшина, сформировалось крайне благожелательное отношение немцев, эстонцев и латышей «к русской культуре, к тому хорошему, что русский народ способен дать и даёт инородцам».
В таком же духе выступил и депутат Орас из Эстляндской губернии, отметивший, что с 1887 года, «когда наша школа перешла в руки правительственных чиновников, начальное образование у нас совершенно понизилось, потому что с введением русского языка была введения руссификационная политика, вследствие чего многие лучшие учителя увольнялись от должности... Ни одно культурное государство, пытавшееся вести политику принудительной национализации, не нашло от этого пользы»21.
Вердикт Министерства Народного Просвещения
Принимая во внимание мнение латышей и эстонцев, по сути, осудивших решение отменить действие циркуляра Д.М. Левшина от 9 октября 1906 года, А.И. Щербаков обратился в Министерство Народного Просвещения за окончательным разъяснением. Такое разъяснение поступило 3 марта 1915 года. В документе, за подписью Управляющего Министерством (министра) графа Павла Николаевича Игнатьева, говорилось:
«Допустить во всех сельских и городских начальных училищах губерний Курляндской, Лифляндской и Эстляндской с одноплеменным составом учащихся преподавание на родном языке учащихся, кроме Закона Божьего, церковного пения и местных языков, также и других предметов, кроме государственного языка, в первые два года обучения... С начала третьего года обучения в одноклассных и двухклассных начальных училищах, а равно в сельских приходских училищах, преподавание всех предметов, за исключением Закона Божьего, церковного пения и родного языка учащихся, должно во всяком случае производиться на русском языке, причём при преподавании арифметики для объяснений допускается пользование и природным языком учащихся»22.
Примечания
1 РГИА. Фонд 733. Опись 180. Дело 316. О языке преподавания в школах Прибалтийских губерний. Лист 9.
15 Там же. Листы 9-14 а, 28-32 об., 35-37 об., 56-58, 59-60, 88-93, 124-124 об., 117.
19 Рижская мысль, Nr.1858 (05.10.1913)
20 Dzimtenes Vēstnesis, Nr.285 (10.12.1913)
21 Государственная Дума. Четвёртый созыв. Сессия II. Часть V. Заседание 108. Среда, 11 июня 1914 г. Стенографический отчёт.
22 РГИА. Фонд 733. Опись 180. Дело 316. О языке преподавания в школах Прибалтийских губерний. Листы 142-142 об.