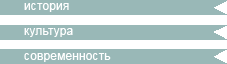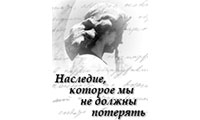ЗАМЕТКИ Евгения Климова
Cтатья воспроизводится по изданию: Sankirtos. Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture. In Honor of Tomas Venclova. Ed. by Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poliakov. - Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenshaften, Frankfurt am Main, 2008. С. 421-483.
Публикация Алексея Климова (Poughkeepsie, N.Y.)
Предисловие и примечания Бориса Равдина (RĪga)
Художник, искусствовед, автор мемуарных очерков Евгений Евгеньевич Климов (1901-1990) родился неподалеку от Риги, в Митаве (ныне Елгава) Курляндской губернии, в 1918 году вошедшей в состав независимой Латвии. Происходил он из рода, корнями связанного с русским искусством. Прадед по отцовской линии - академик архитектуры И.И.Климов, дед, А.И.Климов, — петербургский архитектор-строитель. Мать, Мария Александровна, учительница русского языка и литературы — из семьи потомков петербургского каретного мастера Йоханна Даниэля Кунста (позже именовались — Кунце) и уссурийских казаков.
Из Митавы семья Климовых переселилась в Либаву (Лиепая), в начале 1910-х гг. переместилась в Польшу, а с началом войны оказалась в Петрограде. Октябрьскую революцию и Гражданскую войну Климовы встретили на Дону, где Е.Климов в феврале 1918 г., еще реалистом последнего класса, успел послужить в санитарном отряде, переболеть сыпным тифом, недолго поучиться (за отсутствием архитектурного факультета) на факультете мелиорации (благо кое-какие курсы мелиоративных наук могли пригодиться и в архитектур¬ном деле) в Донском политехникуме в Новочеркасске, а в 1920 г. побывать телефонистом на сторожевом корабле в Новороссийске и в Крыму и поучиться в морской радиошколе. В начале 1921 г. М.А.Климова и четверо ее сыновей (отец скончался в 1919 г.) кооптировали латвийское гражданство и поселились в Риге, на Московском форштадте (предместье) города, где издавна селилось русское населе¬ние из не слишком обеспеченных. В том же году Е.Климов поступил в Латвийскую академию художеств. Его подпись — Е.Klimov (в разные годы он также подписывал свои работы: Е.Кlimoff, Е.Климов, Е.К.) видна на листе присутствовавших на торжественном акте открытия Академии — 12 октября 1921.1
И в Риге Е.Климов собирался заняться архитектурой, пойдя по стопам предков. Но обстоятельства сложились так, что учиться он стал живописи и графике, а также искусствоведению. Занимался Климов у выходцев из петербургских и германских художественных учебных заведений и студий: Х.Гринберга, В.Пурвитиса, Я.Тилберга, Я.Зариньша, слушал лекции известного историка византийского искусства и русской иконописи Ф.Швейнфурта (в Риге он читал общую исто¬рию искусства) и Б.Р.Виппера. Судя по позднейшим воспоминаниям Е.Климова, наибольшее впечатление на его ранние художественные представления произвели беседы с будущим кинорежиссером С.Юткевичем и подаренный ему Юткевичем в 1920 г. в Севастополе том А.Бенуа «История русской живописи в XIX веке», прочитанная несколько позднее книга Родена «Искусство», а также — этногра-фическая экспедиция середины 1920-х гг. на северо-восток Латвии, в крестьянскую Латгалию (бывшую часть Витебской губернии); почти ежегодные со второй половины 1920-х гг. поездки в Печоры, Изборск, Нарву, в села и поселки — Лавры, Городище, Щемерицы и др., в межвоенные годы входившие в состав Эстонии, экскурсия 1928 г. в Москву, Троице-Сергиеву Лавру, Ленинград, Новгород и Псков. Запомнились ему беседы с И.Э.Грабарем, с которым Климов познакомился в 1923 г. в Риге. В 1924 г. там же, в Риге, немаловажной для него была встреча с М.В.Добужинским,2 а позднее, начиная с 30-х годов, — дружба с философом И.А.Ильиным.
По завершении Академии в конце 1929 г., Е.Климов полтора года служил в армии (отчасти в должности художника). Что было делать дальше? На доходы от продажи своих работ особенно рассчи¬тывать не приходилось. Позднее Климов вспоминал: «В 1927 году я перешел в мастерскую проф. Я.Р.Тильберга...3 Помню, как я показывал ему свой портрет Н.Н.Рыковской. Сначала он как будто хотел что-то исправить, но потом передумал и портрета кистью не тронул, но спросил: “Как долго вы над ним работали? — Я ответил, что около месяца, на что Тильберг заявил: «Ну, так вы искусством денег не заработаете!» Я потом подумал, что следовало ему возразить, что я не знал, что в Академии учат, как зарабатывать деньги, но я смолчал». Тот же Тилбергс заметил по поводу дипломной работы Климова, на которой были изображены уличный торговец воздушных шаров и бараночник: «Продавцы есть, а покупателей нет!»4 В середине 1920-х гг. была возможность пойти в Рижский театр русской драмы по-мощником декоратора, позднее Климову предлагали место классного наставника в гимназии, но к постоянной службе он относился насто¬роженно, как бы придерживаясь завета отца — талантливого музыканта-любителя, тяготившегося своей службой по судебной и акцизной части: «Не будь никогда чиновником». 5
В русской художественной среде Риги к концу 20-х гг., ко времени выхода Климова из Академии, сложилось несколько худо-жественных кругов. Один, совсем небольшой, представляли худож-ники-эмигранты с известными именами, уже в возрасте: Н.П.Богданов-Бельский (1868-1945), С.А.Виноградов (1869-1938) и К.С.Высотский (1864-1938). Из них наибольший успех в Латвии завоевал академик живописи Н.Богданов-Бельский, занимавшийся в межвоенные годы не только своими любимыми сюжетами с крестьянскими детьми, но и портретированием. Еще один академик живописи — С.А.Виноградов, преимущественно пейзажист, поселился в Латвии в конце 1924 г., и на протяжении всего своего латвийского периода вел художественную студию, которая досталась ему в наследство от Н.Богданова-Бельского.6 К.Высотский тоже вел студию, а также преподавал в школе.
Другими активно работавшими в Риге русскими художниками были: Ю.Г.Рыковский7 — художник по костюмам в русском и польском театрах, С.Н.Антонов8 — выступавший в сценографии и архитектуре, Н.В.Пузыревский9 — в книжной графике, Р.Шишко10 — в рекламе и оформлении книг, С.А.Цивинский 11 — в плакате, карикатуре. Боль¬шинство остальных (можно назвать еще имен двадцать, в основном - студийцы Виноградова и Высотского) — или преподавали в школах, или заняты были на конторских и проч. работах, или жили на семейном иждивении, или перебивались с хлеба на квас, изредка участвуя в малоформатных выставках.
Среди почти двух тысяч изданий, появившихся на русском языке в независимой Латвии, вышло в свет всего лишь несколько книг-альбомов русских художников: посвященная Псково-Печер¬скому монастырю книга с репродукциями работ Виноградова, книга к выставке Н.К.Рериха со стаьями Вс.Н.Иванова и Э.Ф.Голлербаха, два альбома карикатур С.Цивинского, брошюрки, посвященные Ю.Рыковскому, Н.Пузыревскому, Андабурскому-Матвееву-Юпатову,12 малотиражные библиофильские издания А.Юпатова, — а также три папки гравюр Е.Е.Климова, листов по 10-12 каждая.
У нас нет сведений, пытались ли русские художники Латвии создать свое объединение, подобное, скажем, обществу (даже двум) русских актеров в Риге. Но при малом количестве профессиональных русских художников в Латвии деятельность подобного объединения вряд ли была бы ощутимой. В 1932 г. по инициативе Климова было образовано «Общество ревнителей искусства и старины «Акрополь» ставившее главной своей целью пропаганду русского искусства. 13 Председателем общества был избран проф. В.И.Синайский, това¬рищем председателя — С.Н.Антонов, секретарем — Е.Е.Климов. Параллельно с обществом (внутри общества?) возник еще кружок по изучению русской культуры, в котором Климов читал лекции о русском искусстве.14
В 1932 г. Климов принял место гимназического учители рисования и истории искусств (ученики надолго сохранили благодар¬ную память о его занятиях).15 Он искал контакта с более широкой аудиторией, но возможности были невелики. В 1931-1932 гг. в Риге стали выходить молодежные издания (Мансарда, Медный Всадник, Наша Газета, Русский Вестник, Русское Слово, Русский Студент), стремившиеся объединить на национальных началах молодые силы в литературе, искусстве, общественной мысли. В некоторых из них (Мансарда, Наша Газета) выступал со статьями и рецензиями в 1930- 1932 гг. и Климов — напр., «Две смерти» (на кончину И.Репина и А.Архипова), «В.И.Суриков», заметка с характерным названием «Запроданный Аполлон» (парижские впечатления), рецензии на местные художественные издания, заметка к юбилею Богданова-Бельского с характерными для Климова упреками Богданову-Вельскому в чрезмерном увлечении импрессионизмом и тем самым «отгороженности от больших творческих задач, всегда манящих новизной и неизвестностью». В конце 1930-х гг. Климов стал изредка писать для газеты Сегодня, в основном, к юбилейным и памятным дням (К.Петров-Водкин, В.Верещагин, К.Сомов, И.Гра¬барь, В.Серов, М.Врубель), составил краткую сводку русской худо¬жественной жизни Латвии для нескольких выпусков Русского ежегодника, который выходил в Риге в 1938-1940 гг. Он участвовал в подготовке выставок «Старый Петербург» (1931 г.), «Русская живопись двух последних столетий» (1932 г.), в экспозиции, посвященной Пушкинским дням (1937 г.).
Когда говорят о Е.Е.Климове, то прежде всего отмечают его приверженность традициям русского классического искусства, убеж¬денность в высоком нравственном предназначении искусства и в том, что по духу искусство должно быть прежде всего национальным. Но его глубоко задевало, когда под маской «национального» в искусство проникали поверхностность, иллюстративность, декларативность, непрофессионализм.
Климов не совсем остался чужд новых веяний в искусстве. В своих поздних заметках он рассказывал о юношеских увлечениях: «Когда мы ехали с юга в Ригу, мы простояли в Москве целую неделю. Я воспользовался пребыванием в Москве и посетил два музея современной и западной живописи. На меня произвели особенно сильное впечатление работы Матисса»;16 «Еще летом 1921 г. <...> я начал делать зарисовки, вероятно, под влиянием виденного в Москве в му¬зее Щукина <...>. Красками, помню, написал портрет брата Павла в синих тонах, а после поездки в Берлин на Рождество 1922 г., где я увидел романтический балет «Арлекиниада» <...>, я написал «Бале¬рину», где при взмахе руки дирижера взлетает балерина на пуантах».17 Работы тех начальных лет утрачены: как вспоминал Климов, они были брошены (по другим источникам, — уничтожены), когда он покидал Ригу в 1944 г. Обнаружить следы интереса юного Климова к авангарду можно разве что на снимке начала 1920 г., где улыбающийся художник позирует перед фотографом на фоне своих работ.18 Но и в поздних работах Климова заметны следы его былого внимания к импрес¬сионистам. Н.Андабурский, молодой рижский художник и критик, непримиримый враг модернизма как явления, лишенного искрен¬ности, тепла, лиричности, народности и т.д., в рецензии на выставку Климова 1932 г. несколько поспешил, заявив, что «отдав дань всяким измам, художник быстро и навсегда покинул их <...>».19
Судя по воспоминаниям Климова, смену его художественных установок можно приблизительно датировать 1923 годом. Причины, по которым произошел его отход от авангарда, не очень понятны; более или менее ясно лишь, что переворот объясняется как эстети¬ческими, так и идейными мотивами. В любом случае, очевидно, что он не был предопределен требованиями рынка — ведь первые работы, которые нашли покупателя, были работы Климова-модерниста.21 За¬метим также, что среди русских художников межвоенной Латвии модернизм не находил приверженцев, в то время как среда латышских художников в те годы была в этом отношении более динамичной. На новом этапе Климов много внимания уделял графике, возможно потому, что в ней искал пути преодоления стилистики своих ранних живописных работ.
В сентябре 1928 г. в Ригу из Эстонии прибыл иконописец- старообрядец П.М.Софронов, позднее один из известных иконо-писцев нового времени. Софронов вел занятия иконописи в кружке, в который вошли В.Синайский, Ю.Рыковский, Т.Косинская, В.Зандер 22, Е.Климов. Климов занялся реставрацией икон, став вскоре профессиональным реставратором; один из первых опытов этой работы — в собрании В.А.Каульбарса, рижского антиквара и коллекционера. Обратился Е.Климов и к церковной мозаике; выполненная в этой технике работа «Иоанн Предтеча» во второй половине 1930-х гг. была установлена в часовне на могиле архиепископа Иоанна (Поммера) в Риге.
На деньги, полученные за реставрационные работы в одной из рижских церквей, Климов в 1929 г. провел месяц с лишним в Париже. Позднее, в 1934 г. он ездил в Италию.
Первый альбом (портфолио) литографий Е.Климова(Desmit pilsētas ainavas. E.Klimova litogrāfija. Десять городских пейзажей. Литографии Е. Климова) вышел в Риге в 1928 г., второй (Ріlsētas аіnаѵаs.E.Klimova litogrāfijas. Городские пейзажи. Литографии Е.Кли¬мова) — почти через десять лет, в 1937 г., третий альбом — По Печерскому краю — был издан в 1938 и заслужил внимание А.Бенуа, который писал автору, что альбом этот «представляет крупный инте¬рес как в историческом, так и в художественном смысле». По поводу климовских рижских пейзажей тот же А.Бенуа заявил в своей рецензии в Парижских Новостях. «Я не могу сделать лучшего компли¬мента художнику, как сравнить эти его очаровательные городские и пригородные пейзажи с аналогичными работами Добужинского и Верейского».23
В 1940. с приходом в Латвию советской власти, Е.Климов возглавил в Рижском художественном музее, переименованном в Музей советского искусства Латвийской ССР (ныне — Национальный художественный музей Латвии), Русский отдел (новый для музея), а вскоре затем занял должность зам. директора музея. Формирование Русского отдела должно было заинтересовать Климова — возникала возможность широкой пропаганды русского искусства. В Риге в частных коллекциях было немало работ русской школы, как правило, переместившихся в Латвию из России после революции. Так, например, на выставке русских художников 1922 г. с почти 70-ю работами были представлены 39 художников, в том числе А.Бенуа, М.Добужинский, В.Верещагин, Б.Григорьев, С.Жуковский, Ф.Захаров, К.Коровин, Б.Кустодиев, М.Ларионов, Ф.Малявин, В.Маковский, В.Масютин, Л.Пастернак, К.Петров-Водкин, Н.Рерих, В.Серов, К.Сомов, В.Суриков, В.Фалилеев, Я.Ционглинский, И.Шишкин, А.Экстер, К.Юон и др.24 В 1927 г. было выставлено около 300 работ, в их числе И.Айвазовский, А.Архипов, А.Бенуа, В.Боровиковский, И.Бродский, М.Врубель, Н.Ге, С.Жуковский, О.Кипренский, К.Коровин, И.Крам¬ской, К.Крыжицкий, Н.Крымов, А.Куинджи, Б.Кустодиев, Лагорио, И.Левитан, Ф.Малявин, К.Петров-Водкин, В.Поленов, И.Репин, Н.Рерих, А.Саврасов, В.Серов, П.Соколов, К.Сомов, С.Судейкин, В.Суриков, В.Тропинин, Н.Фешин, И.Шишкин, К.Юон и др.25 На выставке 1932 г. «Русская живопись двух последних столетий» (Е.Климов был одним из ее организаторов) из частных, большей частью, рижских коллекций, среди почти 250 работ ста с лишним авторов находим следующие имена: И.Айвазовский, М.Аладжалов, А.Архипов, Л.Бакст, А.Бенуа, И.Билибин, В.Боровиковский, А.Брюллов, К.Брюллов, Ф.Васильев, А.Васнецов, В.Васнецов, Г.Верейский, В.Верешагин. М.Врубель, М.Добужинский, Б.Григорьев, К.Гун, Ф.Захаров, Ю.Клевер, М.Клодт, К.Коровин, Б.Кустодиев, Е.Лансере, Д.Левицкий, И.Левитан, А.Маковский, К.Маковский, Вл.Маковский, Ф.Малявин, В.Масютин, Г.Мясоедов, М.Нестеров, А.Орловский, И.Остроухов, Л.Пастернак, В.Перов, К.Петров-Водкин, В.Поленов, И.Репин, Ф.Рокотов, 3.Серебрякова, В.Серов, К.Сомов, С.Сорин, С.Судейкин,В.Суриков, Ф.Толстой, В.Тропинин, И.Шишкин, М.Шибанов, А.Яковлев, К.Юон.26 Хотя какая-то часть этих работ к 1940 г. выбыла из Риги, напр., собрание Д.Копеловича (Копелиовича), но немалое их число к этому времени оставалось в частных коллекциях, которыми при конфискациях 1940-1941 гг. в определенной степени и комплектовался Русский отдел музея. Во главе экспертной комиссии, оцени¬вавшей экспроприированные художественные ценности, стоял Б.Р.Виппер.27
В 1940-1941 гг. Климов опубликовал в рижской печати несколь¬ко статей. Одна из них была посвящена давнему объекту внимания Е.Климова — Н.Богданову-Бельскому 28, чье творчество издавна вызывало у него противоречивые чувства (с одной стороны — сугубо русская тематика, с другой — «ренуаровская» манера в передаче народных сюжетов). Другая статья представляла краткий обзор латышской жи¬вописи: выделяя творчество Я.Розенталя и Я.Валтерса как художников-реалистов, Е.Климов отмечал, что позднее латышская живопись «отошла от традиций русской реалистической школы и в лице своих молодых представителей попала под влияние француз¬ского модернизма», что среди части латышских художников «формализм <...> не изжит и по сей день», хотя реальные основы постепенно берут верх.29 Хотя очевидно, что по этой статье прошлась рука редактора, в основе своей она содержит знакомые нам климовские требования к искусству.30
Когда в Ригу вступили войска нацистской Германии, новая власть, стремясь продемонстрировать устойчивость и естественность «нового порядка» — разрешила театральную и концертную жизнь, не препятствовала восстановлению частного книгоиздательского дела, завела новые периодические издания (как правило, пропагандистской направленности). Открывались музеи и выставочные залы, оккупа¬ционные власти позволили существование полупрофсоюзного-полутворческого «Кооператива [работников] изобразительного искус¬ства», основы которого были заложены в Латвии при советской власти. Не позднее начала сентября 1941 г. в Риге, а затем и в провинции, стали возникать художественные салоны, поначалу объединенные с книжными и комиссионными магазинами, а позднее, в связи с неожиданным интересом публики к искусству (вызвавшим в годы войны даже подделки под известных мастеров) и скачком цен на произведения искусства, — образовалось несколько полноценных худо¬жественных галерей, с вернисажами, отзывами в прессе и т.д. Если в 1941 г. состоялось всего пять художественных выставок (первые — в октябре), то к августу 1944 г. на территории оккупированной Латвии их прошло не менее 170.31 Сведений о том, как жили и что делали русские художники во время оккупации Латвии, мало. Известно лишь, что они принимали участие в выставках наряду с латышскими худож¬никами и сдавали свои работы в салоны на продажу. Тематика работ русских художников тех лет, если судить по каталогам, отзывам и редким воспроизведениям их работ в печати, оставалась такой же, как в предвоенные годы. Оккупационные власти не поощряли сюжеты, связанные с войной, рекомендовали держаться пейзажа, натюрморта, портрета, жанровых сцен из народной жизни. На Первой всеобщей выставке в январе 1942 г. из трехсот работ только две напоминали о войне — одна В.Степанова «Старый рижский рынок в июле 1941 г.», другая — работа белорусского художника Д.Годыцкого-Цвирко «Пет¬ровская церковь»32 (изображавшая, по-видимому, горящий и падаю¬щий под артиллерийским обстрелом шпиль рижской церкви св. Петра).
В годы войны, по-прежнему, пользовался успехом Н.П.Богданов-Бельский как портретист (ему даже доверили портреты Гитлера); продолжал работу книжного графика Н.Пузыревский; бедствовал, оформив всего несколько изданий известный своими экслибрисами (в том числе и военных лет) А.Юпатов, по слухам, рискнувший поддержать свой скудный бюджет подделками.33 Г.Матвеев и Н.Андабурский прошли в Германии «переквалификацию» на курсах военных корреспондентов,34 но откуда и куда потом «корреспондировали», точных данных нет. Появляются в рижских изданиях неизвестные ранее имена (Борисов (Б.О.Рисов), Д.Максимов. Л.Чехов, Б.Рухлов и т.д.) — возможно, за этими псевдонимами скрываются и рижские имена. Работают в русских газетах, журналах и бывшие ленинградцы (по-видимому, из военнопленных).35
В годы войны у художницы А. Бельцовой некоторое время собирался по средам литературно-художественный кружок, как-то связанный с рижским журналом Новый Путь и его белорусским аналогом Новы Шлях, но входил ли туда кто-нибудь из известных нам художников, сведении нет.36
Е.Климов в первые месяцы оккупации Риги продолжал работать в музее, на короткое время переименованном в Deutsches Landesmuseum. Но в связи с переориентацией музея на пропаганду германского искусства и достижений техники и, как рассказывал сам Климов, в связи с обвинениями в том, что он, на посту заместителя директора музея, содействовал эвакуации художественных ценностей, он вскоре от музейных дел был отстранен.
За годы войны он участвовал в нескольких коллективных выставках, провел персональную; в Риге вышло четыре небольших папки его гравюр и пять комплектов почтовых открыток с его графикой. Первая папка — Rīga — вышла в середине октября 1941 г.37 Через год, в начале осени 1942 г. — другая:Ostlandbilder.38 В том же
г. вышли два комплекта серии открыток Aus dem Osten 39.В 1942-
гг. вышел еще один комплект из серии Aus dem Osten и набор, посвященный Пскову. Судя по языку этих открыток и папок, изда-тель рассчитывал на их продажу, в основном, среди немецких военнослужащих и немецкой гражданской администрации. Своеоб-разной рекламой для этих потенциальных покупателей могли служить воспроизведенные в газете Deutsche Zeitung im Ostland за 1 и 9 ноября 1941 г. две климовские гравюры: одна — «Шведские ворота» — из вышедшего накануне альбома Rīga, а другая — «Рынок в Пскове».41\
В 1943 г. был издана, с пояснениями на латышском языке, папка литографий, связанная с давней поездкой Климова в Италию (E.Klimovs. Italija. 8 divtoņu origināllitogrāfijas [Rīga], 1943),а также вышла другая папка: Псков. Литографии Е.Климова.42
Издать в Риге в годы войны папку рисунков, комплект откры¬ток особых трудностей не представляло. Главной трудностью было получение бумаги для издания. По-видимому, помог Климову в этом его брат Георгий, с его широким кругом знакомств и хорошим знанием немецкого языка.43
Е.Климов не оставлял в годы войны и мозаику. В 1943 г. он на-чал работу над «Троицей» для Псковского собора. По его эскизу в Германии, в Меттлахе, была изготовлена и в середине мая 1944 г. доставлена в Ригу фарфоровая мозаика, но Псков, для которого эта работа предназначалась, к тому времени был уже недоступен, и мозаика была во Пскове установлена много лет спустя, о чем сам ,
автор узнал только в конце 1980-х гг.44 Был ли у Е.Климова официальный заказ на эту мозаику, мы не знаем. Во всяком случае, какие-то отношения с епархией у него существовали; в 1943 г. по заказу епархии он изготовил рисунок для церковного ритуального покрывала.45
В печати тех лет Климов выступил всего несколько раз. В окку-пационной русской периодике время от времени воспроизводились картины русских художников; реже касались общих вопросов искусства, русской архитектуры, иконописи, музейного дела; отмечали юбилейные даты художников — Архипова, Брюллова, Васнецова, Вере¬щагина, Кустодиева, Остроухова, Перова, Поленова, Репина, Судейкина, Сурикова, Шишкина, писали об ушедших (Нестеров,Самокиш). Чаще всего такого рода материалы принадлежали риж¬скому журналисту В.Гадалину, ленинградцам Б.Филистинскому (Филиппову) и В.Завалишину, новгородцу В.Пономареву, перепеча¬тывались статьи Д.Рудина из берлинского Нового Слова.
В начале лета 1944 г. Е.Климов едет в Прагу для устройства своей выставки, взяв с собою около ста работ. Чуть ранее в Прагу же отправились его жена с детьми и мать. Условия в Чехословакии были совершенно иными, чем в Латвии: «немцами в городе никакое пуб¬личное русское выступление не разрешалось. В Праге по этой причине не было ни русских книжных магазинов, ни русских газет, не продавались даже ноты русских композиторов. Русские концерты должны были идти без афиш и рецензий».46 После короткого возвращения в Ригу Климов окончательно уезжает в Чехословакию, занимается реставрацией икон для Кондаковского института, а в 1945 г. издает серию открыток с видами города чешского города Жатец, где обосновались Климовы и где их застал конец войны. В мае 1945 г. в городок входят советские танки. Климов вспоминал: «Те, от кого мы ушли за тысячу километров, пришли за нами. Тут была и гордость за одержанную русским народом победу, но к этому примешивались воспоминания о всем пережитом и знание сущности советской власти. <...> Всю следующую ночь без перерыва по нашей улице грохотало гулким звуком от топота копыт и скрипа телег. <...> Впопыхах, занавесив окна, сжигал я всякие письма, книга и документы».47
В августе 1945 г. Климовым удалось переехать в американскую оккупационную зону Германии, в деревушку Хейденхейм, где для Е.Климова даже нашлась работа — иконы и портреты. В Германии он выпустил альбом литографий с видами г. Китценгена. В 1949 г. Кли¬мовы переселились в Канаду, где Е.Климов прожил вторую половину жизни, писал, устраивал выставки, издавал свои работы (обычно в открыточном формате), преподавал, читал публичные лекции, работал в качестве художника на биологической станции Рыбного депар¬тамента провинции Квебек и много печатался — статьи и рецензии по вопросам русского искусства, воспоминания — в основном, в Новом Русском Слове и Новом Журнале. Частично статьи Климова вошли в его книги Ругские женщины по изображениям русских художников (Вашингтон: В.Камкин, 1967) и Русские художники. Сборник статей ([Нью-Йорк]: Путь жизни, 1974). Часть воспоминаний из цикла «Встречи», печатавшихся в Новом Русском Слове, вошла в книгу Встречи (Рига, 1994), где помещены очерки о проф.В.Синайском,Н.Богданове-Бельском, М.Добужинском, И.Грабаре, Ф.Швейнфурте, С.Антонове, И.Ильине, И.Шмелеве и др.48 Едва ли не первая публикация Е.Климова на родине — его воспоминания о М.Добужинском в рижском журнале Даугава (1988, № 8, стр. 122-125). Активно переписывался Е.Е.Климов с М.В.Салтупе, много сделавшей для по¬пуляризации имени своего учителя в Рижской русской гимназии. Часть своих работ Е.Климов передал Советскому Фонду культуры и во Псков.
В 1988 г., в наброске «О моем художестве» он писал: «Состояние моего здоровья в последние годы не дает мне возможность интенсивно работать. Я еще занимаюсь и религиозной живописью и реставрацией икон. Пишу авторские повторения некоторых моих картин и рисунков, сделанных в молодости».49
В 1990 г. Е.Е.Климов погиб в автомобильной катастрофе.
Публикуемые ниже «Заметки» Евгения Евгеньевича Климова — фрагмент его дневника за годы Второй мировой войны. Как сообщил нам Алексей Евгеньевич Климов, сын художника, отец так работал над дневником: «Как правило, отец не заносил свои мысли непосред¬ственно в тетрадь, а сперва записывал их на отдельных листах бумаги, с которых переписывал в дневник». Насколько можно судить по воспоминаниям самого художника, такого рода работа (окончательная обработка черновых записей военных лет) была произведена им в 1945 г. в занятой Красной армией Чехословакии, в ожидании возможного обыска и ареста. Е.Климов так писал об этом в своих воспоминаниях: «Руки опустились, пропала энергия. Выходить не хотелось, я сидел дома и переписывал заметки. К сожалению, многие записи, близкие по времени, пришлось уничтожить или изменить».50 Беловик 1945 г., по-видимому, незначительно отличается от черновика. Те или иные эпизоды, детали биографии как собственной, так и окружающих, политические оценки, — все то, что, надо полагать, и могло быть опущено или поправлено, не существенно для того типа художественного дневника, каким являются «Заметки».
Свой дневник Е.Климов вел с 1921 г. до конца дней и пред-ставляет очевидную ценность как свидетельство непрекращающихся творческих размышлений и поисков художника. Он ценил возмож-ность размышлять наедине с самим собой, делиться с дневником своими художественными наблюдениями, открытиями, разочарова-ниями. От этого он не отказывался и в годы войны.
Дневник хранится в семейном архиве Климовых. Приносим искреннюю благодарность А. Климову и В.Щербинскису за помощь в работе над примечаниями.
Борис Равдин
* * *
1 сентября 1939 г. Все же война. Неужели и мы не избежим общей участи? Страшно.
11 сентября 1939 г. Месяц акробатики. Зарабатывал больше цирковыми номерами, а не искусством. Реставрация стенной живописи в соборе и отдельных икон дала большой опыт. Интересно было работать, потому что близко к монументальным задачам. Евангелисты на парусах написаны лихо, умело и толково; верхние большие ангелы написаны по шаблону, но умелой и уверенной рукой. Переходы «над пропастью» бывали действительно аховые. Новый мир открылся мне — жизнь корпорации маляров.51
23 сентября 1939 г. Маленькая надежда теплилась на премию «Римского фонда», хотя объективно говоря, знал, что шансы совсем слабые.52
Посмотрим других и послушаем, что расскажут о совещаниях.
12 октября 1939 г. Поставил в раму «Рождество». 53 Как будто приняли с удовлетворением.
6 ноября 1939 г. Неделю работал в Киш-озерской церкви.54
Тихо там, как в деревне, кругом хорошо, работа приятная. На потолке Бога-Отца прописывал в облаках с лучами. Подошел просто, декоративно, но писать все же на потолке довольно трудно.
Жалею, что эскиз Иоанна Крестителя не послал я на конкурс «Римского фонда». Хорошо он выглядит в золотом обрамлении.
10 ноября 1939 г. Прочел переписку Чистякова с Савинским 55. Давно ничего не читал. Хорошая книга. Видна забота и нежность, мудрость и своеобразие учителя. Веет правдой и верой в святое дело искусства. Так редко сейчас об этом слышишь. Сам Савинский худож¬ник слабый.
13 ноября 1939 г. Сгорела Озолкалнская церковь на Киш-озере. Ни одной иконы не сохранилось.56 Жаль иконостаса, хороших икон и моего эскиза Иоанна Крестителя. Нет даже фотографии.
Умер Терентий Павлович, Леля потеряла все картины.57
Бедные, что пришлось им пережить.58 Так пусто на душе, так зыбко. Бренность всего земного и материального особенно в такие моменты чувствуешь.
После долгого перерыва видел свою конкурсную работу.59 Разобщенность, разнобой цвета, глухое небо и превалирование «краски» над «предметом». Но как будто что-то симпатичное есть.
28 ноября 1939 г. Слово «картина» от «карта», «хартия» (грамота), буквально — «лист папируса». Читаю в Энциклопедии Брокгауза и Еф¬рона: «Картина есть всякое законченное по содержанию произведение художника-живописца, независимо от рода произведения. Закончен¬ность по содержанию зависит от степени участия личности художника в создании картины, кроме необходимого подражания природе по внешности».60 Интересная мысль! Картина без содержания — абсурд. Поиски картины только в плоскости формальной невозможны.
Любопытный доклад о положении нашей живописи прочитали Бине и Брастынь.61 Много очень правдивого и никакого крика.
13 декабря 1939 г. Писал портрет Вольд<емара> Юр<ьевича> и слушал радио. Передавали какую-то мелодичную музыку, без всякого значения, только с задором и ритмом. Вспомнил Мусоргского, где каждый звук должен иметь смысл, где нет «просто красивого». Нет ли тут особенности чисто русской? И нет ли аналогии с живописью? В портрете Репина «Стасов в красной рубашке» увидел слабые стороны русской живописи. Ноги, сапоги — все в хаотическом состоянии; фор¬ма смята, цвета нет, ясность утеряна. Вот эта неряшливость формы, не-поющие цвета, к сожалению, часто встречаются в нашей живопи¬си.
Тесто красочное бери гуще, чтоб сухо не было.
4 января 1940 г. Печоры. Снова тут. Ездил в Лавры, где как будто намечается работа по реставрации на лето.
Что за этот год сделано? Главное — «Рождество», потом «Рига» 62, метод был правильный: найти сначала композицию и к ней делать этюды. Технически, насколько мог, провел правильно. В «Хороводе» шел от этюдов, отчего в целом и не связано. В «Риге» та же ошибка. Кроме того, несоответствие живого образа и языка мозаики.
Этюды этого года, малочисленные, идут ранее намеченным путем.
7 января 1940 г. Станция Валк.63 Три дня работал в Печорах. Увидел настоящую зиму, прекрасную с трескучими морозами. Кустодиева понял. Деревня в инее, деревья запушены, воздух искрит¬ся, пушинки на солнце золотятся, тишина. Дым из всех труб валит, а небо золотым перламутром переливается. Снег хрустит, голоса издали раздаются как будто близко, а глядишь, фигурки маленькие. Полное безветрие, тишина. Красота, да и только! Мороз около 15°, а утром было 23°. Писать трудновато, краски стынут. Валенки и полушубок спасали. На этот раз в Изборск не поехал. Долго смотрел из-под ворот монастыря на Никольскую церковь. Хотелось впитать и надолго закрепить в себе, осознать своим и родным.
11 января 1940 г. Рига. «Зиму» написал по привезенному этюду. Писал после долгого перерыва с большой радостью. Кажется мне, что вышло мягче, чем прочие вещи, писанные дома. Вознаградил себя за Изборск.
Бор<ис> Роб<ертович> читал доклад о графике.64 Четко, определенно, по пунктам, но по сути формально. С интересом слушал, но сейчас такая трактовка меня не волнует.
21 января 1940 г. Был у коллекционера икон. Зашел разговор о русском искусстве. Не признает за Россией прав на живопись. «Ил¬люстрация в книге там есть, но живописи нет». Обычная западная установка, пробить которую необходимо. Пикассо, по их мнению, ведущий и лучший из современных мастеров. Русская выставка в Ев¬ропе интереса не вызовет. Незнание русской школы живописи простительно, но вызывает во мне желание действовать.
21 января 1940 г. Руки в портрете Липы Георг<иевны> 65 писал. В лице была основа, подмалевок, и все встало на свое место, а в руках «плавал». Так за весь день руки и не написал.
8 февраля 1940 г. Раскрашивал скульптуры для Ирэны. Может быть, когда-нибудь откликнется та нить, что завязалась между нами.
27 февраля 1940 г. Видел работу Матвеева «Пирушка». Под-черкнутый шарж. Он понимает выразительность примитивно, искажая и преувеличивая формы.
Неловко за Тат<ьяну> Вл<адимировну> с ее иконой. Нельзя явную копию выдавать за свою работу и еще в интервью делать допол-нения. Краснеешь за такие выступления.66
29 февраля 1940 г. Выставка Струнке поучительна тем, что пока-зывает, как трудно бывает художнику узнать самого себя.67 Он выставляет в главном зале живопись; в конце вешает рисунки и иллюстрации, а также эскизы декораций и костюмов. Между тем это последнее и есть самое ценное в его творчестве. Он человек, идущий из себя, от своей выдумки; натура перед ним не раскрывается и не дает ему даров цветения. Он видит условную схему, годную в рисунке, но беспомощную в живописи. Странно, что согласование тонов, дос¬тигаемое им в акварели и темпере, совершенно теряется в масле. Совершеннейшие неудачи «Данте и Дон-Кихот» 68 и пр.
2 марта 1940 г. Противно, когда лавочник подозревает во всех свои, лавочные, помыслы. Так поступает и мыслит иконописец- старообрядец Павлов.69 Мелкий, завистливый, жадный и трусливый, а главное, малокультурный. Глотка работает у него больше всего. Жаль, что связался с ним в работе. Так ведь он до сих пор не сдал иконы «Благословление детей», хотя письменно обязался сдать к 1 сентября пр<ошлого> года. Высказал ему прямо все, что думал. Также приш¬лось высказаться об иконе Тат<ьяне> Вл<адимировне>. Понятия че¬ловек не имеет о живописи, о рисунке и форме. Стыдно.
19 марта 1940 г. Расчищал большой образ «Тихвинской Богоматери». Тихая, бестелесная, плавно-спокойная. Действительно «Образ», а не картина. Нечто родственное Чимабуэ и Дуччио в зеленоватых тонах лика. Младенец совершенно вне плоти: в красном одеянии с золотыми прописями.
Занят сейчас мозаикой «Нерукотворного Спаса» для памятника на кладбище. 70 Подыскивание камушков, их обработка и наклейка — новый опыт в моей жизни.
28 марта 1940 г. Залили цементом мозаику. Как-то выйдет первый опыт?
4 апреля 1940 г. Открыли мозаику. Не так плохо. Лучше, чем на эскизе, крепче. Может быть когда-либо придется делать что-нибудь
большое. Работаем с К.Я.Убаном. 71
18 апреля 1940 г. Люблю этюды, из которых потом что-либо получается (в смысле картины).
9 мая 1940 г. «Мне нужен художник, — говорит М.Калнынь, — ра-бота которого понравилась бы из тысячи человек 900-стам. А у нас же всегда из тысячи найдется один, которому работа понравится, и он ее купит. Мне, например, нужен художник, который может изобразить лицо человека в горести и в радости. Подойдете ли вы к такой цели?» Ответил, что вряд ли.
Расчищаю икону «Деисус». Она наиболее старая, над которой когда-либо работал. Ответственно и интересно. Снимаю слой краски.
20 мая 1940 г. Икону «Деисус» расчистил. Снял два слоя краски. Судя по стилю живописи, икона может быть 15-го века. Монументально, значительно, очень декоративно, при чудесном подборе тонов. Большая выразительность достигается большой простотой.
26 мая 1940 г. Беседуем за столом. В нашем рассказе упоминается
слово «собака». Алеша 72 слышит среди непонятных ему слов одно знакомое и сразу откликается: «Вау-вау», — что значит «собака». Он уловил понятное ему слово (Алеше всего один год). По сравнению с этим, думаю, что человек видит, чувствует и откликается только на то, на что способен. Есть люди, которые в продолжение всей своей жизни только это «вау-вау» и слышат.
5 июня 1940 г. Делаю рисунки к «Букварю».73 Попалась очень интересная статья Н.Радлова «Рисунок в детском журнале». Вот выписки:
«Различие в отношении к рисунку взрослого и ребенка очень глубоко и принципиально. Взрослый человек привык видеть на определенном месте журнала или книги определенные иллюстрационные пятна».
«Для ребенка каждый новый рисунок в журнале — событие, новая радость, новое переживание». (Декоративные качества рисунка ребенку чужды. Е.К.)
«Надо помнить, что ребенок гораздо активнее, эмоциональнее воспринимает изображенное, и те приемы, которые не дают пищи для такого переживания, всегда охлаждают его внимание».
«Главное содержание рисунка, изображаемое действие или характеристика героя, основная эмоция, должны быть выделены и фиксированы с максимальной наглядностью. Способность ребенка отделить главное от второстепенных деталей, в силу его ограничен¬ного опыта, ниже, чем у взрослого. Чисто декоративные элементы рисунка должны отойти на второй план».
«Детская аудитория, к которой обращается художник, состоит на 100 % из художников. Все те тысячи детей рисуют сами в школе, дома и в часы отдыха. Это одно из любимейших детских времяпрепровождений. Когда такому молодому художнику попадаются ми глаза рисунки, сделанные неизвестно чем, то в сознании юного художника наступает разрыв. Но когда ребенок видит, что теми же карандашами, которыми работает он, могут быть созданы образы, его волнующие или его веселящие, — он естественно находит в этом новый стимул для своих творческих упражнений и приближается к настоящему пониманию искусства. У ребенка возникает мысль, что искусство доступно и повышается интерес к творчеству».
«По трем направлениям: 1) специфика детского раскрытия темы, 2) организация страницы декоративно-интересной, неожидан¬ной и привлекательной и 3) применение техники, ясной в своих приемах и доступной пониманию ребенка, должна вестись работа».74 Как четко и ясно сформулированы эти положения. Всегда высказы¬вания Н.Радлова и его рисунки очень интересны. Сумею ли в рисунках к «Букварю» подойти как надо? «Плаваю» во многом. Для иллюстрации нужны особые качества, которых во мне почти нет.
27 июня 1940 г. Лавры-Щемерицы. Уже две недели занят я реставрацией иконы Николая Чуд<отворца>. В первый раз в жизни пришлось проделывать все стадии закрепления, заклейки, вставления новых мест. Сейчас начал чистку. На моих глазах происходит бук¬вальное спасение старого памятника живописи. Что за живопись будет, сказать еще трудно.
Всякие тут типы. Регент хора, здоровенный мужчина в расши¬той рубашке, отец 15-ти детей, говорит: «Я не горазд верующий, но как услышу звон в церкви, так прямо устоять не могу, так в церковь и тянет. Я ведь на клиросе с 11-ти лет». Церковный сторож тайно тор¬гует ханжой, грязный и ленивый, по его платью бегают тараканы.
Здесь, в Лаврах, охряной завод. Охра добывается прямо с по-верхности земли, промывается тут же в речке и таким полуфабрикатом отправляется в Таллин. Там уже изготовляют ряд красок от охры до цвета жженой сиены.
Забавные фамилии выбирали здесь крестьяне: Васильчиковы, Победоносцевы, Седовы и пр.75
Матрена Щербакова, из деревни Панушево, замечательная тка¬чиха и вышивальщица. Ей лет 45, неграмотная, поразительная масте-рица в старинных узорах; хорошо размещает, разнообразит рисунок, но в современных узорах нет вкуса. Вот такую бы работницу в настоящую мастерскую, дать ей образцы, других бы она выучила.
Книга старинная здесь находится: СЛОВ ИЗБРАННЫХ из разных поучений с<вя>таго Иоанна Златоустаго 1792.76
На внутренней стороне первой страницы чернилами корич¬невого цвета написано: «Пользовался сею богодухновенной книгою староруской мещанин иконописец Павел Иванов сын веселков; 1820- го года октября 1-го числа. Окончил чтением всех вней обретающихся душеполезных поучений, наставляющих всяк ум и сердце на всяку истину. Благодарю церковь христианскую ивней находящихся настояте¬лей, что удостоили меня грешного образовать занятием поучительных слов, и удовлетворили попользоваться сею книгою излато-словесными беседами вней находящимися, которую ивозврашаю 1820-го года октября 1-го числа во всякой исправности».
12 июля 1940 г. Лавры. Подхожу к концу работы. Под слоем оли¬фы и краски оказалась старая живопись конца 17-го или начала 18-го века, не очень высокого качества. Но икону все же спас от дальней¬шего разрушения. Много здесь попустительства — пропадают из ча¬совни старые иконы, иконостас со старыми иконами «зверски» пере¬писан два года тому назад местным «обновителем» Денисувым.
Всех здесь, конечно, более занимают новости цивилизации (электрический звонок на колокольню и пр.).
18 июля 1940 г. Рига. Кончился Лавровский этап жизни, в целом от него не очень останутся хорошие воспоминания.
26 июля 1940 г. Видел работы Логиной.78 «Вы природы не знаете и не любите натуру». Она отвечает: «Да, правда, я себя люблю». С такими понятиями далеко в живописи не уедешь.
9 августа 1940 г. Выписываю из письма Крамского: «В педагогике есть действительно преступные ошибки — это претензия развивать. Детям нужен пример настоящей и нелицемерной искренности И больше ничего. Это самое высокое развивающее средство».79
5 сентября 1940 г. Видел фильм «Третьяковская галерея».80 Прекрасная мысль, снимки замечательные, картины оживают. Конечно, надо быть подготовленным, чтобы как следует ее воспринять. Сопровождение музыкой очень удачно, но словесное сопровождение слабо, его просто мало; многое из показываемого не объяснено, так и остается загадкой. Жаль, что многое не попало: Тропининский Пуш¬кин во всех стадиях работы, Саврасова забыли, Поленова нет, Верещагина нет, Врубеля, Коровина, Архипова, Малявина нет. Но,несмотря на эти промахи, фильм все же хороший.
15 сентября 1940 г. Фильм «Чайковский» 81 по идее прекрасный,
Там, где ноты и записные книжки оживают, — замечательно. Слова
Грабаря — отлично.82
8 октября 1940 г. Воспоминания Головина прочел.83 Малоинте-ресно, скучновато. Писание не его область. Он вспоминает малозначительное и не берет глубоко.
13 октября 1940 г. Сейчас тонкости не нужны. Надо давать простое и неизощренное.
8 мая 1941 г. Давно не писал. Много было работы в артели по украшению детской комнаты в замке 84 и, наконец, работа в музее. Мечтал всю зиму о «Березовой роще». Теперь ее прописал отчасти дома, отчасти с натуры. Тронул также и «Хоровод — городищенских баб», Весна в этом году малосолнечная. Писал на природе мало.
2 июня 1941 г. Некоторые «Левитаны» оказались копиями! Вот почему этот арап их и продал! (Масковский). 85
11 июня 1941 г. Пейзаж Саврасова удивительный по игре светотени.86 То, о чем сам думал и что в работах Васильева 87 заметил, то тут у Саврасова ясно показано. Оказывается, он не только автор «Грачей».
23 июня 1941 г. Через 27 лет снова война. Какой ужас несет она с собою. Ответственность за семью и дело в Музее.
4 июля 1941 г. Четыре месяца работы в Музее одни из лучших по роду работы в моей жизни. Выгонят меня, наверно, из музея и рус¬ского отдела не будет.
21 августа 1941 г. «Ушли» меня из Музея. Как жаль, что не уда-лось показать в развернутом виде все собрание русских картин и рисунков, а могло получиться прекрасно. А сейчас при немцах лгут и обворовывают Музей. Делают что-то нелепое, везут сюда мебель, оружие старинное и пр.
Какие-то идиоты заведуют делом Музея.
19сентября 1941 г. Кроме Саврасова, сделал еще копию с Кустодиева «Осенний праздник в деревне». Так же на память о музейной работе сделал копию с женского портрета Боровиковского.88 Как много в нем от технической иконописной традиции. По темному подмалевку на тепловатом грунте идут зеленоватые прописи теней лица; затем световые части выделяют объемность и лепку лица. Удивительно просто и убедительно. При необычайной скомпановнности цветовых соотношений соседство зеленого платья с лиловым шарфом найдено поразительно.
20 лет записок. Многое пережито. Хорошо, что не все из памяти улетучилось.
22 сентября 1941 г. Снова занялся рисунком. Снова на природе рисую. Только понемногу начинаю входить в своеобразие рисунка. Работал теперь на камне и литография влияет сейчас на рисунок. Взаимное переплетение влияний. Нашел свою книгу писем А.Иванова.89 Пропадала 9 лет, нашел у букиниста Бартушевского.90
1 октября 1941 г. Вошел сейчас хорошо в работу, замечаю в рисунке ранее не замечавшееся.
6 октября 1941 г. Вспоминаю слова Пикассо: «Я не ищу, а нахожу».
Кусочек осени открылся мне чарующий.
Можно сравнить игру пианиста с живописью и рисунком. Тут тоже может быть мягкое туше. Старые места в новом свете вижу.
8 октября 1941 г. Вспоминаю:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
Те, кто по-западному хотят все русское объяснить, натыкаются на непреодолимые препятствия.
18 октября 1941 г. Принес из типографии новые оттиски литографий «Рига».91 Работал с удовольствием. Кое-что там же, в типографии, на месте нашел. Материал подсказал.
22 октября 1941 г. Как откликнется новый альбом?
Обвеяло скоро весь осенний «набор». И за «золотистым» октябрем наступает «черный» ноябрь. Как присмотришься к природе, столько открывается, прямо чудеса, как будто никогда раньше и не видел!
26 октября 1941 г. Книжного торговца из Торна <Торунь> встре-тил. Любит Достоевского, Пушкина. Никак понять не может,что у Пушкина ко дню дуэли было 150 тыс. рублей долга. «На что он тратил? Кто заплатил после смерти?» Забавно, что это его интересует, Вспомнилось различие Гете и Пушкина. Один записывает в записную книжку все расходы, другой бросает золотые в воду, следя за игрой всплеска волн.92
1 ноября 1941 г. Зима ранняя наступила. Все в снегу. Золотой осени так и не было. После большого перерыва работал над иконой. Московским узорочьем увлекся.
6 ноября 1941 г. Когда-то я задал себе вопрос, почему в моем внимании оказался Московский форштадт Риги? Прошли многие годы, и теперь я могу на это ответить. Среди чего я живу, то и является темой моих работ. Тогда я жил на форштадте, и он отразился в моих этюдах и рисунках. Сейчас «Березовая роща», «Вечер», этюды осени — все было здесь, под рукой. Откликаясь на окружающее, я нахожу интерес и темы своих работ.
19 ноября 1941 г. Просил коллекционера Гамана 93 разрешения скопировать «Зиму» Кустодиева. В прошлом году он соглашался, но я не мог воспользоваться разрешением, был занят. Хотел это сделать теперь. Как сноб начал мне нести какую-то ахинею, ссылаться на юридические нормы и пр. И отказал. Самое в этом неприятное — от¬сутствие доверия. Он собирает произведения русского искусства и русскому художнику отказывает в очень сериозном деле. Урок жизни.94
12 декабря 1941 г. Несколько портретов пробовал, чувствую, что отстал, вышел из колеи. Как нужно постоянное упражнение.
Трагически кончилась жизнь семьи Инны. Не пожалели ималых детей.95
18 декабря 1941 г. Разошелся весь альбом «Рига». Думаю, что не столько он сам по себе, сколько желание что-нибудь купить на память, способствовало его распространению. Читаю Тарле. Как зна¬менательно! 96
27 декабря 1941 г. Большую репродукцию (Ріерег Druск) «Троицы» Рублева получил сегодня. Передача исключительна. Надо с этим образом свыкнуться, приобщиться, чтобы полностью войти в этот мир.
4 января 1942 г. Читаю «Закат Европы» О.Шпенглера. Трудный язык, «заумный». В области искусства делаю некоторые выписки.
«Античная живопись ограничила свою палитру желтой, красной, белой и черной красками.На каком основании отказалась эта живопись в свое лучшее время от голубого цвета и даже голубовато¬зеленого? Голубой и зеленый цвета - краски неба, моря, плодоносной равнины, теней, южного полдня, вечера и отдаленных гор. По-существу, это краски атмосферы, а не предметов. Они холодны; они уничтожают телесность и вызывают впечатление шири, дали и безгра¬ничности. Гете назвал голубую краску в своем учении о красках «волнующее ничто».
«Я назвал возвышенную зелень Грюневальда, Лоррэна, Джорджоне католическим цветом пространства, а трансцендентную коричневость Рембрандта — краской протестантского мирочувствования. В противоположность им «рlеіп аіг», развернувший новую красочную скалу, обозначает атеизм. Поэтому от принципа рlеіп аіr’а совершенно невозможно подойти к настоящей религиозной живопи¬си. Всякая картина в духе рlеіп аіг придает светский характер внутрен¬нему помещению церкви».
«Мощные ландшафты Рембрандта лежат вообще где-то в мировом пространстве, а ландшафты Манэ — поблизости железнодорожных станций».
«Рембрандт созерцал природу, Манэ смотрел на нее».
«Серебряные ландшафты Коро еще грезят о духовности старых мастеров. Курбэ и Манэ завоевали голое физическое пространство,пространство «как факт».97
Вспоминаю, что перед полотнами импрессионистов у меня были почти те же мысли.
22 января 1942 г. Плохо двигается портрет. Вообще с портретом слабо.
6 февраля 1942 г. Есть разница в жанре, как быте и как в символе. Отвлеченность и «возведенность» в символ, картину, дают возвышенную радость. От «очеркизма», этюдности уйти, от записи виденного к образу. От частного к синтезу.
25 февраля 1942 г. По лубку писал «Пляс». Еще не вполне могу отрешиться от натурализма, но все-таки это шаг дальнейший от «Хоровода».
15 марта 1942 г. Получил для копирования «Васю» Петрова-Водкина.98 Веет от него спокойствием и не простой случайной увиденностью, а образом длительным народным, крестьянским. Тут и икона, тут и Венецианов и Кустодиев — словом, тут линия своей тради¬ции. Жаль, что технически небрежно, написано на старом этюде, где не сцарапаны краски. Нижние мазки перебивают спокойную форму лица.
«Почему ваши картины на выставке такие бледные, — говорят мне..
вы всегда пишите так или у вас есть что-нибудь поярче? Смотрите, и публика не заметила, картины не куплены». Ну что таким отво- тишь? 99
29 марта 1942 г. По лубку писал «Хоровод в Семик». Впервые воспользовался опытом палешан, писал на черном грунте. Дальнейший шаг в сторону от натурализма, через стилизацию к образности. Так «Изборск» мой завершился мозаикой, так «Городищенские бабы» завершились «Хороводом в Семик».
31 марта 1942 г. Выставка Пурвита. 100
Собираю отдельные мысли и впечатления. Уверенная рука, хоро¬ший глаз. Сейчас душа пуста, а ум недостаточно глубок и критичен, При всем «техническом вооружении» не хватает всё прощающей личности. Нет самозабвенной отдачи себя природе и искусству, очень часто выпирает довольно примитивно подчеркнутый «Пурвит». Он больше декоратор, мастер цветной гравюры. Что-то неладно у него с восприятием красного цвета, он «стреляет» у него как на переднем, так и на самых дальних планах. Он связан кистью, т.е. кисть часто диктует ему фактуру и форму природы. «Рассыпанный горох и пшено» точек становятся манерой, он беден в валёрных отношениях, т.е. в игре различных освещений. Таких задач (как у Васильева и Саврасова хотя бы) нет ни в одной работе. В построении планов он кулисен и плоскостен. Технически очень небрежен, оставляет часто незакрашенный картон. Лихость линии и мазка внутренно не убедительны, вместе с ним не волнуешься. Настоящих картин, в полном смысле эгого слова, почти нет. Только этюды. Поверхностность многих работ просто поражает, а однообразный прием диагонального мазка притуп¬ляет и создает представление об ограниченности. Как невыгодно бывает раскрывать все свои запасы. И насколько лучше бы было, если над каждою вещью он поработал бы раз в 5 больше; и вещей было бы меньше, и работы были бы солиднее. Розенталь и Вальтер, как личности, безусловно, выше.101 Не говоря уже, что сравнение с С.Щед¬риным, Поленовым, Левитаном не нуждается ни в каких комментариях.
Вопросы этики, религии переплетены с искусством. Отсутствие первых (вседозволенность) оправдывает и соответствующую мазню.
9 апреля 1942 г. Псков. Только сейчас пошла оттепель, очень поздняя весна. Проехал через родной мне Изборск, где было туманно, пусто и серо. Псков, несмотря на многие разрушения, хранит что-то значительное. Русь здесь в полном раздолье, лужи океаноподобные.
10 апреля 1942 г. Псков. Смотрел Собор сегодня. Там 7-ми ярусный
иконостас, невиданный. В отдельности не очень художественный, но
в целом грандиозный и помпезный. Не молитвенно, но театрально. Иконописная мастерская произвела на меня удручающее впечатление.
Грязь, небрежно, все курят, какая-то халтурная малярная мастерская третьего разряда. Люди без образования, без вкуса, без каких-либо знаний в области иконописания — одно из удручающих впечатлений.102 Ни малейшего уважения к работе.
К вечеру посещение Мирожского монастыря. Тут спокойствие, величественность, грандиозность задачи и выполнение с верою и зна¬нием. Тона выдержанные — голубой, охристый, светло-зеленый и лиловатый. Некоторая застылость, нет напористости, но цельность и высокий стиль.
11 апреля 1942 г. Город предстал мне как город церквушек, башен и деревьев, ажурных ветвей и сквозь них видимых очертаний звонниц и луковиц. Моросит, работать нельзя. Воспринимаю не столько нашу старину, как самую природу, снег, проталины, лужи. Но грустно сей¬час здесь жить и все это видеть.
12 апреля 1942 г. Весна развернулась сегодня. Птицы поют, пар от земли подымается, небо тает, словом, «Весна идет».103 Но разгона на¬стоящего еще нет.
13 апреля 1942 г. Видел без ризы икону Тихвинской Б<ожией> М<атери>. Редкая по строгости, простоте, царственности и отрешен¬ности. По-видимому, греческого письма конца XIV в. (1387 г.?). Ни золотом фоне темный силуэт, текучий и плавный. У носа по контуру киноварная обводка (как у Владимирской); облик Младенца совсем греческий. В этом памятнике, прекрасно сохранившемся и хорошо реставрированном, все напоминает мне сиеннских мастеров — Дуччио и др. Вот где встречаются ветви одной большой традиции — Византии. Исполнявший эту икону мастер, безусловно, большой декоратор, работавший по росписи стен. Эго видно по широкому и смелому письму. 104
Сегодня в Пароменской церкви видел склад икон. До войны здесь было все описано, пронумеровано, инвентаризировано, реставрировано насколько возможно. Иконы стояли по полкам. Теперь они как в свалке и без всякого порядка. Нет описи. Жаль тех икон, которые ушли неизвестно куда.
Так, как в Изборске, тут не работалось. Нет тут размаха далей, по¬лей и пространств.
25 апреля 1942 г. Рига. По наброскам могу работать. Некоторый материал все же есть.
27 апреля 1942 г. Ковно. По пути из Риги весна. Ивы оранжевые, ветви даже красные. Осинник увидел, серо-зеленые стволы, теплая земля — очертания вдали тают.
Бедность в Литве сразу бросается в глаза. Большие кресты стоят у домов и у дорог.
Бедность = кресты, так же, как в Псковщине. Ходил вечером по городу и в темноте видел очертания домов и церквей. Старинная часть города в стиле барокко. «Что город, то норов».
28 апреля 1942 г. В музее прекрасные народные скульптуры. При-митивно, но искренно и выразительно. Таковы тоже церковные лубки. Все же современное по живописи очень плохо. В военном Музее идет прославление своего прошлого, но этим не купишь величия настоя¬щего. На площади у Музея образец безвкусицы: кресты, какой-то обелиск, бюсты и с боков две пушки. Симпатичный ансамбль, как по духу, так и по форме!
Погода не дает возможности работать, замерзаю.
30 апреля 1942 г. Мороз, град, ветер не дают работать. Окраины города очень живописны.
1 мая 1942 г. Вильна встретила меня нелюбезно. Холодно, моро-сит. Загнали меня в самую отдаленную гостиницу, по причинам, вероятно, расовым. Ходил по Вильне, но не могу сразу переключиться на этот новый мир, перестроиться на архитектуру барокко и рококо. По духу мне все чужое и чуждое. А люди здесь выросли в таком замкнутом шовинизме, так обострились все взаимоотношения, так воспитывались тут все в сознательном пренебрежении ко всему чужо¬му, что диву даешься.
Ну и номер был в моем отеле. Прямо веселый дом. Сбежал оттуда.
2 мая 1942 г. Хожу по городу, подыскиваю места для рисования. Весь день моросит.
3 мая 1942 г. Борьба с природой продолжается. Солнца так до сих пор в Вильне и не видел. Только сейчас почувствовал невероятную сложность барокко для рисунка. Был сегодня в церкви Петра и Павла. Внутри пышность скульптурная необычайная. Все цвета слоновой кости. Тут и сирены с рыбьими хвостами и головы зефиров и фавнов, никакого отношения к христианству не имеющих. Строители были итальянцы. По пышности и богатству отделки это лучшая церковь в Вильне, да, пожалуй, немного найдется и в других городах подобных строений. Думаю, что молиться в такой церкви трудно, это скорее дворец или музей.105
4 мая 1942 г. Утром шел снег. Вильна меня выживает своей погодой.
Навестил художника Слиондзинского.106 Очень интересные поли- хромные барельефы. Вообще мастер большой и завершенный, холодноватый и академичный, но законченный и стильный. Видел церковь, где крестили Арапа Петра В<еликого>.107
Ни одного большого рисунка в Вильне сделать не пришлось.
Контрасты теперешней жизни бросаются в глаза. Маленький переулок, перегороженный колючей проволкой; здесь выход из гетто. Утром рано проходил тут, выводили людей на работу. Тут же Костел и из открытых дверей доносятся звуки органа, туда направляются отдельные фигуры. Проповедь любви и проповедь ненависти живут рядом.
6 мая 1942 г. Ковно. Осмотрел выставку литовских худож-ников.108 Среди них впервые видел в оригинале Чурлиониса. Он фило¬соф, видящий Космос, мистически передающий это всемирное начало. Тонкий по краскам и рисунку. Ночное кладбище на фоне звездного неба — целая поэма. Есть некоторые вещи, где нужны боль¬шие пояснения, эти воспринимаются труднее. Чурлионис глубже Рериха,109 подлиннее, разнообразнее. Нет одинаковых синих небес. Конечно, школы у него быть не может, он «сам — один» и себя исчер¬пывает. Это конец или венец индивидуализма. Роскошь и опасность.
Средний уровень прочей живописи очень низкий. В Военном музее гид водит и рассказывает, как угнетали русские литовцев. Кик все можно переворачивать?
7 мая 1942 г. Рига.- Трудно в современных условиях путешествовать и работать.
16 мая 1942 г. Издатель предлагал мне условия довольно суровые, а главное еще сам хотел выбрать мотивы для альбома. Слава Богу, от него отбоярился и освободился от его опеки. Надеюсь, что и без него обойдусь.
Хочу двинуться сейчас на Север, в Эстонию. Обстоятельства и встречи сейчас в пути тяжелые. Слишком всюду много горя.
Кое-что из литовских впечатлений запало мне в душу, когда- нибудь может и найдет выход и применение.110
На выставке Ковалевской 111 очень слабо, по шаблону все. Чернявский 112 еще хуже.
18 по 28-е мая 1942 г. совершил я поездку в Ревель и Нарву.
Ревель приоткрылся мне во всей своей остроконечной красоте. Кроме того, там такие богатства живописи, каких давно не видел. Но устроиться было трудно и с питанием совсем было коряво. Хороший маленький музей истории гор<ода> Ревеля с прекрасными литогра¬фиями видов Ревеля.
Несколько рисунков, надеюсь, мне пригодятся для моих лито-графий.
В Нарву попасть было трудно и вечером разыскать Ал<лександра> Ив<ановича> еще трудней, но все же попал к ним, как в родной дом, Мар<ия> Степ<ановна> духовно выросла, стала настоящей русской женщиной. Ал<лександр> Ив<анович> рассказывал о всех своих тяжелых переживаниях, о взрыве на станции, о ранении детей, о тяжелых днях осады и пр. Хорошая семья.113
Очень разрушена Нарва, сильно пострадала. Делал наброски око¬ло Ивангорода. Задержал меня солдат, повел в комендатуру, там отбоярился. С питанием здесь совсем плохо. Да и рисовать в этих условиях трудно. Нельзя забыть всего происходящего, нельзя не видеть большого горя. А для творческой работы должна быть безза¬ботность и ощущение свободы. Этого здесь не было.
15 июня 1942 г. Рига. Начал снова работать на камнях. Рисунок не как этюд, но как картина, — вот чему учит меня опыт литографии. Многое из виденного и пережитого оживает снова и получает свое оформление.
5 июля 1942 г. Канцелярщина и волокита. До сих пор не удалось двинуть печатание литографий, — затруднение с бумагой. Но вообще ощущаю спокойствие по поводу работы. Знаю, что могу почувствовать, передать это в рисунке; знаю также, что до других это почувствованное доходит. А остальное не важно. Никто не может поколебать моего восприятия. Что кому-то не нравится, мне совершенно нее равно. От этого сознания есть уверенность и ровность. Моя лю¬бовь к Тургеневу отозвалась на днях, когда мои работы сравнили с писателем Б.Зайцевым.
7 июля 1942 г. Когда пишешь небо, думай о его пластике и пластике облаков, это необходимо завоевать, как и разнообразие света.
11 июля 1942 г. От живописности — к характеру, таким представляется мне мой путь в литографиях.
Конкурсную работу Скуча видел.114 Трудно все, «из мозгов». Вспоминаю: «дайте подробность, которую не выдумаешь». От незнания натуры впал в черноту.
Хотел свою конкурсную работу взять из школы, куда ее по¬местил для украшения зала. Спрашиваю заведующего, он говорит, что работы моей нет, немцы стояли в школе, никого не пускали и там хозяйничали. Кто-то прельстился, поехала она на Запад. Жаль, увижу ли ее когда-нибудь? А по существу грабеж и безобразие.
27 июля 1942 г. Не удались мне литографии так, как этого хотелось бы. Если б можно было, то выкинул бы некоторые листы и заменил бы новыми. Все как-то грубо и коряво получилось.
2 сентября 1942 г. Из типографии новый альбом получил и как-то на душе пусто, не волнует. Нет в нем трепета, тонких струн и звука, как в прошлых альбомах. Как бы и чужой.
По данным датам рождения Евгений Антон<ович>115 определяет Ильюшин 116 характер: влюбчивость, очень развитая жизнь чувства, земная жизнь есть его главная основа; неуравновешенная обществен¬ная жизнь.
Верно ли это? Так ли определится?
17 сентября 1942 г. Чужие совсем люди определяют цену на альбом, считая десять марок чрезвычайно высокой ценой и принуждая меня назначить цену в пять марок за альбом. Когда я их спросил, а знают ли они вообще, что такое автолитография, то получил отрищі- тельный ответ. Все как-то в целом с этим альбомом получается не так.
30 сентября 1942 г. Заболел, пролежал 4 дня. Читал всласть заметки и вырезки из газет, составленные Ниной Онуфр<иевной>.117 Открылась новая личность, полная любви к родине и сознания величия России. Некоторые ее заметки очень трогательны.
Под влиянием прочитанного, многое в прошлом русского искусства представляется мне сейчас иначе. Утверждение государ¬ственной жизни,способствование тому, чтобы крепилось сознание государственной крепости, не позволяет зачислить сюда многих передвижников, по капле подтачивавших государственные устои. Кто больше думал о целости государства — Репин или Кустодиев, пожалуй, второй.
21 октября 1942 г. Насколько допустимы личные переживания в искусстве? Или вернее, как личное должно преобразоваться в настоящее искусство? Может ли объективное искусство сохранить допустимую степень личного? Веласкец, например, ведь он и объективен и глубоко личен. Часто объективное, теряя личное начало, теряет вообще все. Над всем этим думал в связи с моими литографиями и воспоминаниями Нины Онуф<риевны>. Излишняя личная откровенность мне иногда тягостна даже в области искусства (искусство не есть только человеческий документ).
Придя в школу, и очутившись среди знакомых и своих людей,испытал чувство радости, просто оттого, что и я некоторая часть школы. Также при исполнении гражданского долга на погребении художника Норита 118 почувствовал, что я член той же организации, нашего профессионального союза.119 Это чувство объединенности дает устои жизни.
8 ноября 1942 г. Перевешивал у себя в комнате картины и заметил, что некоторые этюды не выдерживают соседства с моими копиями Кустодиева, Петрова-Водкина, кажутся плоскими и белесыми. Повесил «Весну» (Алеша — Изборск) и увидел, что ничего, выдерживает соседство. Вся стена спокойнее стала.
Видберг и книга о нем.120 «Художник без фантазии — не худож-ник», — говорит он. Правда, у него фантазия есть, но шаблонная. Но то, чего у него нет и в помине, — это трепета, чувства, любви, сердечности, живого восприятия жизни. У него умелая ловкая рука при атрофированном сердце. Уклон в скользкую эротичность 121 гово¬рит о низких моральных устоях в искусстве.
13 ноября 1942 г. Видел книгу рисунков Каналетто. Наброски гусиным пером видов Венеции. Стремительно, вдохновенно, разнообразно, живописно — словом, упоительно! Вглядываешься как в родное, видишь прозрачность воздуха, вибрацию света, и достигнуто это почти без теней. И никакого росчерка, никакого желания «сде¬лать». Просто делание, мастерское, привычное и артистически метко свободное. Эта Высшая свобода подкупает и покоряет. Сравниваю со своими попытками в области рисунка и нахожу, что мертвенность некоторых литографий зависит от отсутствия живого восприятия, которое подменяешь сухой выдумкой. Старайся больше видеть целое,объединенное с небом, не отрывай отдельных памятников от обшего.
Детская книга с рисунками Т.Качаловой 122 показывает ее как неумелого иллюстратора, незнакомого совсем с графикой. Кроме всего прочего, рисунки совсем не для детского понимания. Неловко за нее.
14 ноября 1942 г. Читаю «Уединенное» Розанова: «...добрых от злых ни по чему так нельзя различить, как по выслушиванию ими рассказов чужого человека о себе. Охотно слушают, не скучают — верный приз¬нак, что этот слушающий есть добрый, ясный, простой человек. Можно ему довериться. Но не надейтесь на дружбу с человеком, кото¬рый скучает, вас выслушивая: он думает только о себе и занят только собою. Столь же хороший признак о себе рассказывать: значит, человек чувствует в окружающих братьев тебе. Рассказ другому есть выражение расположения к другому».
«В мысль проституции входит: «Я принадлежу всем», т.е. то, что входит в мысль писателя, оратора, адвоката. Действительно, в сущест¬во актера, писателя, адвоката, даже «патера, который всех отпевает»,- входит психология проститутки, т.е. этого равнодушия ко «всем» и ласковости со «всеми». Ученый, насколько он публикуется, писатель, насколько он печатается — суть, конечно, проститутки. В сущности, вполне метафизично: «самое интимное — отдаю всем».
«Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только «сделать из себя писателя». Но он не писатель».
«Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное».
«Семья есть самая аристократическая форма жизни».
«Меня даже глупый человек может «водить за нос»... Иное дело
мечта: тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздейст¬вием и никогда; в том числе даже и в детстве. Почти пропорционально отсутствию воли к жизни (к реализации), у меня было упорство воли к мечте».
«Православие в высшей степени отвечает гармоническому духу,но в высшей степени не отвечает потревоженному духу». 123
19 ноября 1942 г. Радостно работать в два цвета на камнях. Делаю в первый раз.
20 ноября 1942 г. Умерла наша старенькая Паулина Леонгардовна, «тетя Поляночка». Мир ее праху! Добрый и хороший человек она бы¬ла, во многом в студенческие годы ей обязан. Помогала она тихо, незаметно. Любила всех нас как родных. Ума, быть может, и не высо¬кого, но сердца искреннего и добрейшего.124
Мастер-литограф Шаринь умер.125 Делал мне последние оттиски, любил и знал свое дело, любил настоящую работу. Таких людей уважать надо.
22 ноября 1942 г. Что же остается в жизни, если все зыбко, все ми¬молетно и пропадает в Лете? Остаются добрые отношения, ласка, любовь к людям и по возможности добрые дела. Когда так неустойчиво, так относительно в мыслях, тогда настоящему искусству трудно найти опору.
24 ноября 1942 г. Выставки, салоны:
Друя — бесцветная личность, плохая техника, бесцельная выставка. 126
Даукшис — совсем жалкие портреты, никакой живописи, никакого
Образа.127
Годицкий-Цвирко 128 — много придуманного, грязно по живописи, мало вкуса. Ужасное обрамление.
Пладер 129 — лихая кисть, сочный мазок, мало чувства. Нет картины. Уклон в салонность.
Ансис Цируль 130 — декоративный мастер, хорошо подает свой стиль в набойках, мебели, коврах. Живопись же его совсем слабая.
3 декабря 1942 г. После года ожидания получил для копии «Зиму» Кустодиева. Чувство живое и бодрое, идущее от П.Брейгеля и голлан¬дцев, но наше, северное, переливающее тонким жемчужным отливом. Широкое взятие, картина, где человек частица вселенной. Тут утвер¬ждение жизни в ее свете, радости и красоте. Сюжета, рассказа тут, собственно, нет, но образ есть. В трактовке деревьев сильный декора¬тивный момент. Какое счастье видеть у себя подобную картину, соп¬рикоснуться с ней, просмотреть ее насквозь, впитать и оставить ее соки для своих дальнейших ростков. Как когда-то копировал в музее голландцев, дало свои результаты потом, так, дай Бог, и это не пропа¬дет даром.
12 декабря 1942 г. Снова выставки:
Линде 131 — интересен в композиции, но останавливается на полпути не завершая начатого.
Таубе 132 — сух и малохудожествен.
Рикман 133 — приятен в красочных отношениях, но бессодержате-лен. Огромность его полотен совсем не нужна. Пейзажи еще лучше.
13 декабря 1942 г. Говорили о «свободе и ответственности в искусстве». То, что было, уже тем, что оно было и оправдано — вот точка зрения моих собеседников, не могу с этим согласиться, много в прошлом было ошибок и промахов.
15 декабря 1942 г. Две недели работы над Кустодиевым. Смотреть
это одно, копировать — другое. Вспоминаю работу в музее над Верстраленом, Моленаром, Генельсом 134, а потом над «Рыбаком» Коровина. И не тем ли голландцам я обязан восприятием деревьев, тонкой живописью, а Коровину — светом? Дай Бог, чтобы и этот раз не прошло даром, а оставило свой след.
«Зима» Кустодиева, над которой работал, не столько живописна, сколько тонко декоративна. Синтетическая картина, в которой широ¬та обхвата и подчиненность одному чувству слились в полной степени. Отдельные части с любопытством «прочитываешь» и находишь весе¬лые детали. Вся картина оптимистична, здорова и трогательна по любви к своему миру.
17 декабря 1942 г. Из журнала «Русское обозрение» за 1893 г.:135
«Истинное искусство, как и истинная философия и наука по существу своему бескорыстны, а потому и не могут быть пессимистичны. Примирение со всеми скорбями, тяготами, разладом и мукой личной жизни во имя объективной, вечной истины, красоты и правды - вот неизбежный плод всякой истинной поэзии, философии и науки. Пессимизм им чужд просто потому, что его основание — в корыстной оценке своего бытия с точки зрения индивидуального страдания и наслаждения, точки зрения, отрицающей у этого бытия объективное значение — значение его самого по себе, безотносительно к пользам особи. Истинный поэт не может быть пессимистом».
23 декабря 1942 г. Выставка Мильта. Роскошный салон на Известковой ул., ЗО.136 Верхний свет, ковры, солидное помещение. Сами работы бессюжетны, внешни, салонны. Мильт может пастельно наб¬росать женский портрет или акт, но тут не будет искания характера человека или искания гармонии человека с природой. Все кончается пятнами приглушенных или ярких тонов, которые быстро забудутся, т.к. никаких убразов они не вызывают. Внешне все очень помпезно, резные рамы, и очень убого внутренне. Такое искусство не увлекает и не двигает. Ко всему прочему и рисунок хромает.137
5 января 1943 г. Узнали только сегодня, что осенью в Москве, в
преклонном возрасте, умер М.В.Нестеров. 138 Что-то тонкое, хрупкое, музыкальное и вместе с тем немного грустное связано с ним. Почему грустное? Оттого ли, что невозможен и недостижим тот идеал, к кото¬рому он стремится? Или все мотивы русской природы, русской песни связаны с лирической грустью? Грустен, как сама природа? Не знаю. Образы его тихие, задумчивые, светлые, очень близкие мне, родные и понятные. 139
20 января 1943 г. Видел работы Матвеева. Свободные, свежие, хорошего живописного тона. «Я, — говорит Юра, — в жизни кручусь, живу, выживаю; не могу тут же сразу реагировать. А потом через дол¬гое время все виденное выливается и выкристаллизовывается».
Бесшабашный он, жить с ним, наверное, мука, но художник он, все же, несомненный, за это ему многое прощаю, даже люблю.
Противоположность ему — выставка акварелей В.Степанова.140 Тут искусство и не состоялось. Некоторые вещи лучше, некоторые хуже, но в целом это не художество. Личности нет, главного-то в художестве и нет.
22 февраля 1943 г. Думал писать по памяти кабачок, что видел в Тальсене. Но какая-то дрянь вышла. Реальная основа меня никуда не пускает, да может от нее мне и уходить-то никуда не надо?
13 марта 1943 г. Снова этюды весны. В этом году весна очень ранняя, снег уже почти стаял; снова радость света, бодрость, перекли¬кания отсветов в лужах, словом, полная весна!
А в музее выставка Н.Ѵіка. Боже мой! За что такое наказанье? Писание себя в голом виде с разных сторон при отвратительной внеш¬ности; никакой живописи, грубые краски, отвратительный рисунок, безвкусица, почему-то всюду голуби. И это еще в залах Музея! Это одна из самых отвратительных выставок, какую я за последнее время у нас видел. 141
16 марта 1943 г. Читаю у Розанова:
«Ах, скверный возраст, когда ничего «не надо». Ах, волшебный возраст, когда «всего хочется». Господа в 55 лет! — нам уже недоступны «глупости»; не станем же мешать великолепным «глупостям» тех, кто еще может их пережить как другую действительность».142
25 марта 1943 г. Видел работы Крамарева. Деловитые, со светом, но суховатые, по большей части не вдохновенные. Умеет чело¬век, но почти не чувствует.
Радостно видеть со стороны своих старых учеников внимание и благодарность.
26 марта 1943 г. На выставке графиков. В общем чуждо. Хорош Плепис.143
У других много повторения. Выставка — ответственное дело, это не только базар.
10 лет тому назад писал на Фегезакхолме144 весенний этюд. Сравнил сегодняшний этюд с тем. Сегодняшний много мягче, слитнее. Тот рисуночный, однообразный.
29 марта 1943 г. Выставка умершего Ансиса Цируля. Как часто художник не угадывает основного своего стержня. Он прекрасный декоратор: узоры, вышивки, набойки, мебель. Тут найден стиль, на¬родный, лаконичный. Живопись его плохая, сухая и корявая, ни света в ней, ни цвета. А в иллюстрациях он опять подымается до значитель¬ных вещей, как например: «Три эпохи» 1) эпоха рабства, вся по крас¬кам тяжелого серо-землистого тона, 2) эпоха войны, вся в коричнево¬-красном тоне и 3) современная эпоха, вся светлая, искрящаяся и нежная.145 Есть люди, живущие совсем вне искусства, рассказываю¬щие о делах в канцелярии, конторе и службе. Счастлив, что могу жить вне этой «действительной жизни».
4 апреля 1943 г. Двадцать лет прошло с тех пор, как начал я писать с натуры. Вспоминаю «Умывальник», потом осенью первые этюды на природе. Что же сделано за эти двадцать лет? Не слишком много. Но честно могу сказать, что работал искренно и не выдумывая. Радости много было в работе. Вспоминаю Nature morte с синими чашками, Рыб [!], поездку в Режицу, весенние поездки в Изборск, летнее путешествие у Псковского озера, поездки в Париж и Италию, работа над иконами, фреска в Ивановской церкви146, «Сказка о рыбаке и рыбке», переживание весны в окрестностях нашей квартиры, работа над мозаиками, рисунки, литографии, реставрации - многое открылось мне по ходу работы и много было и тут захватывающего.
9 апреля 1943 г. «Что это о вас давно ничего не слышно?» — говорят мне. Очевидно, для таких людей нужны постоянные напоминания в духе Либерта.147
Просматривал свои итальянские рисунки. Забавно, что среди них есть такие, о которых ничего не помню, когда они мною сделаны, как будто и не мои. Не задело, очевидно, какие-то центры.
15 апреля 1943 г. Выставка Гестаут. Умелая техника пастели. Есть люди, как наша Леля, например, видящие красивую оболочку жизни, но не идущие вглубь. От этого многие вещи на первый взгляд приятны, хорошо смотрятся, «хорошие пятна на стене». Но нет в них того, то щемящего, то бодрящего звука, той неопределимой сущности, что волнует и заставляет все время вспоминать. В портретах нет искания характера, передачи природы вообще нет.148
Видел случайно работы Свемпа.149 Очень большого размера импровизации (72x104 см.).
Лихость часто вредит существу дела.
19 апреля 1943 г. Видел иконы у Целава. Удивительная «Неопа-лимая Купина», не расчищенная; богатая по рисунку и, наверно, по краскам. Живопись самого Целава мне совсем чужая. Он гутирует сладкие красочные соотношения, без всякого стержня. Это салонный
живописец дамских портретов.150
26 апреля 1943 г. Был на «выставке», если можно так назвать, В.Третьякова. Дилетантщина, убогость. Живет упоминаниями боль-ших и хороших имен. Так и пестрят в его разговоре имена Петрова- Водкина, Юона, Кардовского, Головина, Толстого, Карсавиной и пр. Но этим себя не спасешь. Близостью к великим не оправдаешь своего ничтожества. Полотна молчат, краски не играют, рисунка нет, все плывет в какой-то лилово-голубой «дрожи». Жалкое впечатление.151
9 мая 1943 г. Выставка общая в Музее. Уровень обычный, мало волнующий.152 Приняли три моих пейзажа и портрет. Дал «Весну», «Лето», «Осень» и «Зимний портрет» (в шубке у окна Зинаида Петр<овна>). Какая-то затаенная жажда внимания к моим работам есть у меня. Но его нет.
25 мая 1943 г. Две недели работал над эскизом мозаичным «Троицы». Взял рублевскую композицию, изменив только сверху формат. Работа в мозаике несет в себе прекрасное декоративное качество. А вся композиция, такая музыкальная, переливчатая, замкнутая в себе, игривая. Смотришь на нее и ласковость в душе разливается. Удастся ли ее в настоящем материале сделать?153
По вечерам письма Серова читаю.154
Давно хотел получить и только сейчас случайно в руки попали. Умный, честный и тонкий он человек-художник. Художество его толь¬ко и занимает. Но о самом потаенном редко высказывается. Чудесен его юмор.
26 мая 1943 г. На выставке учеников Тильберга. Общих живопис-ных качеств, кроме отрицательных, не видел. Дилетантские пейзажики, коряво посаженные натурщицы, эффекты цветного света - все из старой, ветхой практики Тильберга. То единично-хорошее, что там есть, идет помимо студии.
Выставка Эберштейна.155 Плохо вообще. Зачем он выставляет?
24 июня 1943 г. Поливал огород и подумал о соответствии с жизнью. Жизнь — это огород. Тут растет все, а не только одно хорошее. Много надо культивировать, чтоб росло настоящее. За только что посеянным очень следить надо, оно нежно, как малое дитя; а рядом с большой силой пробиваются сорные травы, прямо прут из земли, а никто их не сеял и никто не любит. Сорные травы живучи, пускают крепкие и длинные корни, отнимают влагу у настоящей посады и заглушают огород. Надо много сил, постоянного ухода и непрерывного наблюдения, чтобы по-настоящему росло. Также все и в жизни.
30 июня 1943 г. Выставка «фигуралистов». Халтура. Фигуры там как глубокой сущности нет и в помине.156 А в окне выставлен «Скрипичный мастер» Лагимова157 почти голый, с бородой наподобие шкипера. Возможно, что такой и был, но убедительности и художественной необходимости нет в этом никакой.
8 июля 1943 г. Свемп удивляется, почему не дают возможности жить и работать как хочешь. «Ничего я не требую, — говорит он, — но пусть и меня оставят в покое. Не нравится вам, ну и ладно, я никого не принуждаю и не заставляю ценить мои вещи. Но довести, например, до того, что Фрагонар, один из лучших живописцев 18-го века, не мог продать после революции своих работ! Не могу понять, как субъективны понятия и как художники сами не видят объек¬тивных основ. Не нравится — значит плохо, рассуждают многие, но по-моему — значит плохо, а критики — это такое темное дело».
В его словах крайний индивидуализм. Так теперь нельзя. Не все позволено, есть границы. Надо утверждать свою самость через умер¬щвление своего я.
И Свемп и Убан часто вспоминают Ван-Гога как своего руководителя. Для меня тут пути нет.
18 июля 1943 г. Попалась мне в библиотеке книга Новицкого «Передвижники и влияние их на русское искусство». М. 1897 г. Редко пустая книга; апломб, похлопывание по плечу, субъективная болтовня. Как за 40 лет многое изменилось в оценках! Насколько кни¬га Бенуа, вышедшая года через 3-4, культурнее, глубже, хотя также очень субъективна.158 Прекрасны некоторые рисунки Репина.
Прочел путешествия Миклухи-Маклая. Интерес только фактов. Сам он лишен совершенно всякого художественного чутья. Ни природы, ни человека он не чувствует.159
22 июля 1943 г. Был Юр<ий> Карл<лович> Тир. «Нашел себя,говорит. — Могу работать как художник. Занятия даюг мне радость». И книгу свою показывает. Есть в нем что-то общее с Палей160, Лауритом и пр. Самодовольство, апломб, глупая уверенность в каких-то открытиях и средствах. А книга слабая, рисунки ужасные. Средний европеец, к тому же глупый. Книга ему в голову ударила.
31 июля 1943 г. Видел альбом с репродукциями Богданова и Пурвита.161 Трудно самому выбирать репродукции. По выбору оба аль¬бома неудачны. А цена аховая — 100 и 60 марок!
6 августа 1943 г. Кеммерн. <Кемери>. Приехал сюда лечить свои ноги от ревматизма. Ложусь в грязевые компрессы. Очень приятно.
А кругом присматриваюсь. Нашел с ребятами полянку в лесу, где грибов всегда много, присматриваюсь к природе. Подумываю о выставке самостоятельной. Надо теперь решить, чтобы закрепить за собою помещение.
20 сентября 1943 г. Рига. Кое-что писал в Кеммерне. Есть там свой «дух». Парк замечательный. И в лесу на своей полянке несколько раз с удовольствием писал. Воспоминания о Кеммерне будут неплохие. Заболел только в конце Алеша.
25 октября 1943 г. Снял помещение для выставки на январь- февраль. Надо готовить рисунки к обрамлению, паспарту и рамки. В первый раз самостоятельно, немного страшно.
4 декабря 1943 г. Читаю у Ключевского: «...некоторые ручьи кажутся чистыми только потому, что они очень мелки, а не потому, что текут прозрачною струею».
Читаю также у Ключевского, что у русского человека есть «наклонность из формы делать содержание». Сопоставляю это со своими соображениями, что часто русский человек безразличен в вопросах фор¬мы, относится к ней пренебрежительно. У западного же человека исклю¬чительное внимание к форме, уважение формы (от бедности ли содержания?).
Но как в русском искусстве? В иконописи, например. Нет ли тоже склонности перевести форму в содержание? Обвинить иконопись в пренебрежении формой невозможно, но, любуясь только формой, мы сути иконописи не поймем. Тут дело глубже.
4 января 1944 г. «Завел машину» выставки. Рамки, плакаты, названия, приглашения и пр. Ну, дай Бог!
На выставке графиков162 высокий технический уровень. Художест-во же само, суть-то настоящая, не слишком затронута. Связей с жизнью маловато.
19 января 1944 г. Через несколько дней открытие моей выставки. Есть внутреннее убеждение, что выставка эта не только мое личное дело, а касается более широкого круга лиц. Так все русское оплевы¬вается, а за время войны ни одной русской выставки.163 Сознание ответственности не только за себя заставляет быть возможно строже к своим работам. «Пораздвиньтесь, дайте и мне место», — как бы говорю я, и встречаю, понятно, сопротивление. Как гвоздь с трудом входит в дерево, так и я влезаю со своим «багажом».
24 января 1944 г. Вчера открыл выставку.164
Встретили радушно, тепло. Много было отзвука, благожелатель-ства. От этого бодрость вселяется в сознание, подкрепляющая дальнейшие поиски, надежды и стремления. Честно могу сказать, что большинство работ делал по внутреннему чувству и своею совестью не кривил. Поэтому, м<ожет> б<ыть>, душа других откликается и сочувствует. Электрический свет в помещении заставил меня некоторые вещи убрать и не показывать. Так ушли некоторые этюды и большой «Хоровод в Семик», в последнем чернота была страшная. Что было особенно приятно во всей организации выставки — это чувствю полной свободы, ответственности только перед своей совестью.
5 февраля 1944 г. Закрыл выставку. Ходил две недели все время на выставку, беседовал с посетителями, водил экскурсии. Видел много радости и благодарности по отношению к себе. Очень многим мое искусство говорило и доходило до души. Простые чувства, искренние, действовали. Понятное и доступное, мое искусство воспринималось зрителем. Когда начали убирать мои работы и вносить другие, для но¬вой выставки, какими внешними, фальшивыми показались мне чужие картины. Пустые, в рамы разодетые, а по формату излишне большие.165
17 февраля 1944 г. Свобода денег стоит. Налоговый инспектор за альбом мой 42-го года налог назначил и еще вперед за 44-ый требует. Надо бороться.
22 февраля 1944 г. Выставка режицких художников. Черно, невкусно. У Эгле портреты лучше. В композициях посвист кисти, а нутро пустое, получились полотна дешевые, вредные, ибо подрывают
доброе имя художника и мастера.166
Палина167 квартира сгорела. Вспоминаю его материальную удовлетворенность, и теперь удар по чувствительному месту.
Прекрасная по мысли и глубине книга Розанова «Легенда о великом инквизиторе». Начало чудесное, а конец не так убедителен.
4 марта 1944 г. Получил фотографию мозаики «Троицы». Судя по снимку, сделали очень точно. Туда на место вряд ли попадет.
После пяти лет перерыва встретились и беседовали с Вас<илием> Ив<ановичем>.168
4 апреля 1944 г. Снова выставка, теперь общая. Устал, совсем нехотя участвовал, боюсь, что от выставки будет разнобойное впечатление.
Большую «Ригу» прописал, посмотрю, как она в большом поме¬щении выглядит и тогда решу, выставлять или нет.
14 апреля 1944 г. Выставка в целом не так плоха, как думал.169 Есть даже свой звук, отличие, декоративность, ярь. Эту звонкость и ярь в сильной степени ведут работы Юр<ия> Георг<гиевича>170 огненным пятном «Снегурочки». Поддерживают этот звук работы
Якоби171, Мар<ии> Ром<ановны>172 и, отчасти, мои. Работы Бельского, в общем, тоже декоративны, но вперемежку с живописным началом. Виноградов черств, жестяной, никакого взлета, убраза, поэтичности. Все перегружено деталями, особенно дальние планы.
Много и «халтуры» попало, но это уж всегда. Юпатов принес большую графику «Святые люди». Внизу изображены в виде монахов какие-то проходимцы, преступники, косые и отвратные, а сверху Богоматерь и святые. Какое-то издевательство. Больное и гнилое ис¬кусство.
30 апреля 1944 г. Иконная выставка в Музее.173
Чему учит вся выставка? Как можно следовать иконописной традиции? Просто подражать иконописи не имеет никакого смысла; но как использовать тот опыт, который мы в иконописи находим?
Первое, что мы находим — иконопись не допускает каких-либо дополнений, в ней самой живет дух завершенности и полноты, это мир, живущий своей внутренней жизнью.
Второе то, что составные части не погашаются, но максимально выявляются. Цвет, линия, силуэт, условный свет, общее пятно — все живет полной жизнью, подчиненное высшему Единству.
Третье. Если есть центральное изображение святого, а по боковым клеймам житие, то в центре будет изображение святого идеальное, его, «образ», а в отдельных клеймах, не мешающих центральному, более реальные и жизненные сцены. В «иконе с житием» развертывается постепенность событий во главе с идеальным образом. Этим надо воспользоваться как примером.
Четвертое. Отсутствие реального пространства, пренебрежение глубиной указывает на «письмо», а не на «живопись». Стремление в глубину уводит от символа.
5 мая 1944 г. Все последнее время провожу больше на иконо-писной выставке, всматриваюсь, приникаю и до конца упиться не могу. Это мир чудес, мир Божий, мир умиротворенный и слаженный.
9 мая 1944 г. Мозаичная икона «Троицы» прибыла. Как-то она выглядит?
Начинаю новые хлопоты о Праге. Как-то все устроится?
15 мая 1944 г. Мозаику с таможни в Иоанновскую церковь персвезли и открыли. Не думал я, что судьба принесет эту икону в тот храм, где раньше уже работал.
Хорошо сделали, мягко, очень воздушно. Весь тон иконы светлее, чем на эскизе, но соотношения выдержаны, рисунок очень точен. Приятно видеть законченной работу, тянувшуюся около года,
7 июня 1944 г. Начинается поездка на выставку в Прагу,174 трудно все сейчас.
Примечания
1.См.:Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР. Latvian SSR State cademy of Art( Rīga:Avots, 1989), стр.11.
2.Письма М. Добужинского к Е. Климову см.: Новый Журнал. № 111 (1973),.стр. 175-196; № 113 (1973), стр. 175-189; 1975, № 120, стр. 167-175.
3.Янис Тилбергс (Jānis Tilbergs,1880-1972), выпускник Петербургской академии художеств, живописец, график, скульптор, педагог, занимался также религиоз¬ной живописью, фресками, в 1918-1919 гг. — зав. отделом скульптуры Витеб¬ского художественного училища, в 1921-1932 гг. работал в Латвийской академии художеств; среди его скульптур — бюст Т.Г.Шевченко (1918, в рамках ленинского плана пропаганды монументального искусства). См. о нем: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija, стр. 259-260; Māksla un arhitektūra biogrāfijas.1.-4.sēj. (Rīga:Latvijas enciklopēdija. Preses nams, 1995-2003). IV.sēj., 203.-204. lрр; Benezit Dictionary of Artists(Рагis:Grund, 2006), ѵоl. 13, р. 954.
4.Е.Е.Климов, «Воспоминания», Балтийский архив. Русская культура в Прибал¬тике. Письма. Мемуары. Библиография. X (Рига: Даугава, 2005), стр. 277-278, 283.
5.Там же, стр. 230.
6.Из последних работ о художниках см.: Н.Лапидус. Богданов-Вельский (Москва: Белый город, 2005); Н.Лапидус. Сергей Виноградов (Москва: Белый город. 2005).
7.Рыковский Юрий Георгиевич (1884-1937, Рига), график, сценограф; учился на архитектурном отделении Рижского политехнического ин-та, окончил Константиновское артиллерийское училище, участник Первой мировой войны, в 1920 г. вернулся в Латвию, активно участвовал в выставках, вел художественную студию Общества рижских графиков, работал в мастерской А.Лота (Париж, 1925, 1930 гт.). См. о нем: О.Л.Лейкинд, К.В.Махров, Д.Я.Северюхин. Художники русского Зарубежья 1917-1939. Биографический словарь (С.-Петербург: Нотабене, 1999) (далее: Лейкинд), стр. 506; Е.Климов, «Художник Ю.Г.Рыковский и его рисунки к «Невскому проспекту», Записки Русской академической группы в США. Том. XVII (1984), стр. 208-215; Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II sēj., 258. lрр.
8.Антонов Сергей Николаевич (1884-1956), живописец, сценограф, архитектор; выпускник Петроградской академии художеств, с 1920 г. преподавал на архитек¬турном факультете Латвийского университета. См.: Лейкинд, стр. 95-96; Māksla un arhitektūra biogrāfijās. I sēj., 28. lрр.
9.Пузыревский Александр Владимирович (1895-1957, ФРГ), график, акварелист, поэт, занимался в Риге графикой у В.Масютина, учился в Латвийской и Бер¬линской Академиях художеств, в 1944 г. эмигрировал, жил в Германии. См. о нем: Лейкинд, стр. 474-475; Я.Бердичевский, «Книжные знаки В.Н.Масютина и Н.В.Пузыревского», Книжные знаки мастеров графики. Вып. 1 (Берлин, 2003); Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II sēj.,206. lрр.
10.Ромуальд Шишко (род. 1894), график, плакатист; окончил военное училище, учился в художественной студии (С.-Петербург) и художественной школе (Сара¬тов), в 1939 г. репатриировался в Германию. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. III sēj., 152. lрр.
11.Цивинский Сергей Антонович (1895-1941, основной псевдоним — Сіѵіз), художник-карикатурист, плакатист, учился в кадетском корпусе, был военным авиатором; в 1934-1935 гг. жил в США. После советизации Латвии арестован, расстрелян. См. о нем: Ю.Абызов, Л.Флейшман, Б.Равдин. Русская печать в Риге. Из истории газеты Сегодня 1930-х годов. Книга IV. Между Гитлером и Сталиным (Stanford Slavic Studies, Vоl. 16) (Stanford, 1997), стр.191-201; Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1.-4.sēj., IV.sēj., 190. lрр.
12.Андабурский Николай Николаевич (1907-1995), живописец, график; выпуск¬ник Латвийской академии художеств; в 1944 (?) оставил Ригу, был арестован в Германии и возвращен в СССР, работал художником-оформителем на предприя¬тиях Риги. См. о нем.: Лейкинд, стр. 83. Матвеев Георгий (Георг) Иванович (1910-1966), живописец, рисовальщик, учился в художественных школах и студиях Риги, Парижа, в Брюссельской Академии художеств. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II sēj., 103. lрр.; Юпатов Алексей Иллариопошіч (141 1975), график, экслибрист. Учился в Латвийской академии художссти, одни из основателей Русского культурно-исторического музея в Праге. См, о нем:Лейкинд, стр. 652-653, Māksla un arhitektūra biogrāfijās. I sēj.,225.lpр.
13.См.: «Круг жизни. Воспоминания о профессоре В.И.Синайском, написанные дочерью, Н.В.Синайской», Балтийский Архив. Русская культура в Прибалтике. Т. III (Таллинн: «Авенариус», [1997]). стр. 281. Синайский Василий Иванович (1876-1949) — ученый-юрист, художник-любитель. Родился в семье священника, учился в духовном училище и духовной семинарии; окончил юри¬дический факультет Юрьевского (Тартуского) университета, занимался адво¬катской, затем научной работой; с 1907 преподавал в Юрьевском, с 1911 г. в Киевском университете им. Св.Владимира. В 1922-1944 гг. — профессор Латвийс¬кого университета. В 1944 г. выехал в Прагу, а затем в 1945 г. — в Бельгию. См, о нем: Круг жизни профессора Василия Ивановича Синайского. Воспоминания дочери //. Н.В.Синайской, восстановленные по записям и памяти. 2-е издание (Рига, 2001; это отдельное издание несколько отличается в варианта, опубликованного в Балтийском Архиве); Е.Е.Климов, «Памяти профессора В.И.Синайского», Новое Русское Слово, 1969, 3 сентября, стр. 3. До войны Е.Климов вместе с В.Синай¬ским путешествовал по Италии и ездил на Псковщину.
14.См. о кружке по воспоминаниям Н.В.Синайской в Балтийском Архиве, стр. 282.
15. См. об этом: Е.Е.Климов, «Воспоминания о Ломоносовской гимназии и ес учителях», Рижская городская русская гимназия (бывшая Ломоносовская) 1919- 1935. Сборник воспоминаний и статей. Сост. М.В.Салтупе, Т.Д.Фейгмане. При участии Д.А.Левицкого (Рига, 1999), стр. 87-89. Ср. там же, стр. 89-96.
16.Е.Климов, «О моем художестве» (собрание М.В.Салтупе.)
17.Е.Е.Климов, «Воспоминания», Балтийский Архив, стр. 274; ср.: «Запроданный Аполлон», Мансарда (Рига), 1930, № 2, стр. 27-28.
18.См.: Е.Климов. Избранные работы. Е.Klimoff.Selected Works. Сост. А.Е.Климов (Рига:University of Latvia Journal «Latvijas vēsture» Foundation, 2006), без пагинации.
19.Н.Андабурский, «Три выставки (В.И.Синайский, С.Н.Антонов, Е.Е.Климов)», Русский Вестник (Рига), №1, 1932, 6 ноября, стр. 4.
20. Е.Е.Климов, «Воспоминания», Балтийский Архив, стр. 275.
21.Там же, стр. 274.
22.Зандер Валентина Александровна (урожд. Калашникова, 1893-1989), жена руководителя балтийского отдела Русского Христианского Студенческого Дви¬жения Л.А.Зандера (1893-1964).
23.«Письма А.Бенуа к Е.Климову», Новый Журнал. №62 (1960). Цит. по кн.: Е.Е.Климов. Встречи в Петербурге, Риге, русском Зарубежье. Из воспоминаний художника (Рига: Улей, 1994), стр. 91.
24. См.:Krievu mākslinieku gleznu un zīmejumu izstādes katalogs III. 14.Ѵ.-14.VI. 1922. - L.Т.А. Mākslas zalons (
25.См.: Н.Андабурский, «Выставка картин русских художников в павильоне Вер- манского парка», Школьная Нива (Рига), №3, 1927, апрель, стр. 16-17.
26.См. каталог: Кгіеѵu gleznu izstāde beidzamos divos gadsimteņos Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 4. Līdz 18.decembrim 1932. g. Выставка русской живописи двух последних столетий в Рижском городск<ом> музее с 4 по 18 декабря 1932 г. ([Rīga, 1932]). См. о выставке: Н.Андабурский, «К предстоящей выставке «200 лет русской жи¬вописи», Русский Вестник, №3, 1932, 20 ноября, стр. 4; Н.Андабурский, «К выс¬тавке “200 лет русской живописи”», Русское Слово, №1, 1932, 18 декабря, стр. 5; Зритель, «Как рижские акропольцы устроили выставку русской живописи». Сегодня Вечером (Рига), 1932, №277, 7 декабря, стр. 3; Петроний <П.Пильский>, «Художники двух столетий (К открытию сегодняшней выставки)». Сегодня (Рига), 1932, №336, 4 декабря, стр. 10; Петроний, «Выставка русских художников. Два последних столетия», Сегодня, 1932, № 342, 10 декабря, стр. 8; «Последние дни выставки русской живописи», Сегодня, 1932, №349, 17 декабря, стр. 3; А.Eglitis, “Кгіеѵu glezniecības izstāde Rīgas pilsētas mezeja”, Latvju Кагеіѵіз, 1932, №292, 24.dес., 4. lрр.;J.Medemieks, «Krievu glezniecība Rīgā»,Jaunākas Zīņas,1932, № 280, 10.dес., 9.lрр.; Ѵ.Рute, “Krievu gleznu izstāde ”, Pēdēja Brīdi, 1932, №282, 13.dес.,6.lрр.; О.Grosberg, “Zwei Jahrhunderte russischer Malerei. Ausstellung in stadtischhen Kunsrmuseum”, Rigasche Runschau, 1932, № 281, 12. Dес., S. 7.
27.См.: Е.Е.Климов. Встречи в Петербурге, Риге, русском Зарубежье, стр. 30.
28.См.; «Новейший портрет А.М.Горького», Пролетарская Правда (Рига), 1940, №122, 6 ноября, стр. 4
29.См: Е. Климов, «Латвийская живопись» Советская Латвия (Рига), 1941, № 1-2, стр. 163-166.
30.Ср. статью латышского писателя и критика Аншлава Эглитиса 1943 г. — А.Еglіtīs, “Mūsu glezniecība senāk un tāgad», Tēvija, 1943, № 92, 17.арr., 8.lрр., во многом перекликающуюся со статьей Климова 1941 г. Эглитис уделял особое внимание национальному в искусстве, при этом — категорически отказываясь признавать какое-либо влияние русской школы на латышскую живопись.
31.См.:J.Kalnačs. Tēlotāja mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā 1941- 1945 (Rīga,Neptuns, 2005), 123.-124. lрр.
32. Ор. Сіt., 234. lрр.
33. Ор. сіt., 158. Lрp.
34.Cм.: LVVA(Латвийский гос. ист. архив), ф. 1986, ед.хр. 41028. л. 37.
35.См. В.Вербин (вероятно, А.Гаев, настоящая фамилия А.К.Каракатенко), «Пер¬вая встреча», Голос Народа (Мюнхен), 1952, №31, 2 августа, спецвыпуск, стр. 3. Здесь, кроме Бориса Рухлова (его довоенное место жительство не указано), названы Борис Завьялов, который аттестуется как выпускник Ленинградской академии художеств, любимый ученик И.Бродского и секретарь парторганизации той же академии — Крымов.
36.См. о кружке по рассказам В.Завалишина: Алесь Салавей. Нятускная краса. Збор творів (Нью-Ёрк - Мэльбурн: Беларускі інстытут навукі й мастатства, 1982), стр. 305.
37.Е.Кlimoff. Riga Original-Steinzeichen von E.Klimoff (
38.Е.Кlimoff. Ostlandbilder <на обложке «Bilder vom Ostland» >. Original-Steinzeichnungen von E.Klimoff (Riga: K.Rasinch Verlag, <1942> (1) Titelbl. + 10 Original-Steinzeichungen.По сведениям Р. Полчанинова (см. выше), тираж — 300 экз.; по данным (ошибочным?) Латвийской национальной библиогарфии — 2 000 экз.
39.Первый комплект: Е.Klimoff. Aus dem Osten(
40.Е.Klimoff. Aus dem Osten (Riga: М.Grunberg-Verlag,6.r.) — содержит 19 нумерованных открыток; Е.Klimoff. Aus dem Ostland (Riga: М.Grunberg-Verlag, 6.r.) — содержит не менее 8 нумерованных открыток; о выходе открыток, связан¬ных с Псковом, известно только по статьям Р.Полчанинова. Все серии, которые нам приходилось видеть, напечатаны в Латвийской типографии ценных бумаг (Latvijas vērtspapīru spiestuve) и имеют соответствующую маркировку — LVS. Всюду по цензурным соображениям виды поименованы обобщенно (типа: «Церковь», «Улица» и т.п.), без указания места. Часть открыток из одного комплекта дублируется в других. Подробнее о климовских открытках см.: И.М.Букин, «Об открытках по рисункам Е.Е.Климова», Дополнение к Каталогу коллекционера. Вып. 26 (Рига, 2002), стр. 15-19, 24-28.
41.В той же газете, 5 декабря 1941 г. была воспроизведена работа В.Степанова «Ревель».
42.Нам приходилось видеть это издание только в ксерокопированном виде, к тому же — без папки. По сведениям Р.Полчанинова, альбом был выпущен в Риге в 1943 г., тиражом в 15 нумерованных экземпляров (по другим сведениям - 14 экз.) В связи с редкостью альбома приводим его оглавление: 1. Вид Пскова с р<еки> Великой. 2. Троицкий собор. 3. Разрушения Пскова. 4. Мирожский мо- н<астырь>. 5. Цер<ковь> Василия «на горке». 6. Цер<ковь> Вознесения <новая>. 7. Цер<ковь> Николая «каменноградская». 8. Цер<ковь> Нерукотв<орнаго> Образа. 9. Цер<ковь> Воскресения Господня. 10. Река Пскова весною. 11.На Гремячей горе. 12. Цер<ковь> Иоакима и Анны. 13. Цер<ковь> Миха¬ила Арх<ангела>. 14. Цер<ковь> Козьмы и Дамияна. 15. В долине реки Псковы.
43. В 1943 г. Г.Климов в качестве переводчика сопровождал в гастрольной поездке в Вену и Прагу оказавшегося в оккупации известного певца Н.Печковского (см.об этом записку Г.Климова «Bericht uber die Deutschlandreise mit dem Sanger N.Petschkowsky» , Центр, гос. архив Ленинградской области, ф. 3355, оп. 2, ед. хр. 1, л. 54-56).
44.См. о судьбе этой мозаики: Е.Е.Климов. Встречи в Петербурге, Риге, русском Зарубежье, стр. 73-76; ср. ниже записи за 4 марта, 9 и 15 мая 1944 г.
45. См.: «Антиминсы для православных церквей», За Родину (Рига), 1942, №61,ноября, стр. 3.
46. Е.Е.Климов, «Воспоминания», Балтийский Архив, стр. 300.
47. Там же, стр. 324.
48.Краткую библиографию художественных изданий и печатных работ Е.Климова см. в кн.: Е.Е.Климов. Избранные работы. Eugene Klimoff. Selected Works. Сост. А. Е. Климов.
49. Собрание М.В.Салтупе.
50. Е.Е.Климов, «Воспоминания», Балтийский Архив, стр. 304.
51.Речь идет о реставрационных работах в Рижском Христо-Рождественском со¬боре; вместе с Е.Климовым в работе участвовали Т.Косинская и К.Павлов (См.: К<лимов Е.>, «Русские художники в Латвии», Русский ежегодник на 1940 г. Издание Рижского русского о-ва, стр. 40-41).
52. Речь идет о стипендии, предназначавшейся для совершенствования выпускников Академии художеств в Италии. См.: Latvijas Mākslas akadēmija Romas finda stipendijas 2. Sacensības noteikumi 1938./39.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1938, № 7/8, 123.-125. Ірр.
53. Икона «Рождество Христово» — вероятно, предназначавшаяся для Рижскогособора.
54. Имеется в виду церковь во имя св. Иоанна Крестителя при епископской даче на окраине Риги в Озолкалнсе.
55.См.: П.П.Чистяков. Переписка 1883-1888 гг. Воспоминания (Ленинград - Моск¬ва: Искусство, 1939).
56.См.: «На архиерейской даче в Озолкалне сильно выгорела церковь св. Иоашш Крестителя», Сегодня, 1939, №314, 13 ноября, стр. 4.
57. Терентий Павлович — протопресвитер Т.П.Теодорович, известный варшавский священник, родственник Е.Климова (тесть его брата Георгия), часто бывал и Риге, в 1931 г. сочетал браком Е.Е.Климова и М.К.Морозову; погиб в 1939 при налете немецкой авиации на Варшаву. См. о нем: А.Ионов, свящ<енник> «Пастырь добрый». Св<етлой> памяти варшавского протопресвитера о. Терентии Теодоровича», Сегодня, 1939, №313, 12 ноября, стр. 11; «Панихида по протопресвитере Т.Теодоровиче», там же, №314, 13 ноября, стр.4, Ю.А.Лабынцев, «Протопресвитер Терентий Теодорович как церковный писатель», Славяноведение, 1995, № 4, стр. 51-62; А.К.Свитич. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия (Буэнос-Айрес, 1959). Елена Терентьевна Теодорович (ум. В 1944), дочь Т.П.Теодоровича, художница; расстреляна оккупационными власами по обвинению в укрывательстве участников Варшавского восстания 1944 г. Замечание Климова об утрате картин Е.Теодорович, вероятно, связано и с тем, что в Риге планировалась ее выставки «Бразильская экзотика» (см. об этом в упомянутом выше некрологе).
58.Вероятно, имеются в виду Е.Теодорович и ее мать, спасшиеся при бомбежке.
59.Имеется в виду дипломная работа Е.Климова «Тургеневская улица в Ригс»; воспроизведена в кн.: Евгений Евгеньевич Климов. Художник, искусствовед, педагог, стр. 13.
60. Ср.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т.ХIѴ (С.-Петербург, 1895),стр.618.
61.Бине Екабс (Bine Jēkabs,1895-1955), живописец, витражист, график, худо¬жественный критик, педагог; учился в Рижской городской художественной школе, Харьковском художественном училище, окончил Латвийскую академию художеств. См. о нем:Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija. Государственная Ака¬демия художеств Латвийской ССР. Latvian SSR State Academy of Art, стр. 83.-184.; Māksla un arhitektūra biogrāfjas, I sēj., 64.-65. lрр.; Е. Бине — автор рецензии на выставку Климова 1937 г. См.: J.Bine. Jegēņija Kļimova un Ērika Prēna gleznu izstāde, Aizsargs, 1937, № 2, 135.lрр. Брастиньш Арвидс (Brastiņš Arvīds, 1893- 1984), скульптор, писатель, окончил Латвийскую академию художеств. См. о нем:Māksla un arhitektūra biogrāfijas, I sēj. 80.lрр. Е.Бине и Э.Брастыньш в своих теоретических и живописных работах особое внимание уделяли национальнымистокам латышского искусства.
62.Мозаичная работа Е.Климова.
63.Пограничный железнодорожный пункт на границе Латвии и Эстонии, разде¬ленный на латвийскую часть (Валка) и эстонскую (Валга).
64.Изложение доклада Б.Виппера «О проблемах графики» см.: «Лекция проф. Б.Р.Виппера в Секции друзей культуры <Русского просветительного общества>», Сегодня, 1940, №10, 11 января, стр. 5. За годы работы в Риге (1924—1941) Б.Виппер опубликовал в печати Латвии несколько десятков статей, следующие книги: Latijas māksla: īss pārskats (Rīga: Leta, 1927, переиздано в 10989 году); Die Altersstufen der Kunst (Riga, 1929); Laika problēma tēlotāja mākslā )Rīga:Ramava, 1936); Latvijas māksla baroka laikmetā (Rīga: Valters un Rapa, 1937); Džoto (Rīga, Gulbis, 1938); Jazeps Grovalds (Rīga: Valtrs un Rapa, 1938); Baroque Art in Latvia (Rīga: Valters un Rapa, 1939); L`art letton: essai de synthese historique (Rīga: Tāle, 1940); Mākslas likteņi un vērtība esejās (
65.Липа Гергиевна и Иван Иванович Пурвишко — владельцы хутора близ Елгавы.
66.Речь идет об иконе работы Т.В.Косинской «Моление о чаше» для Рижского Христо-Рождественского собора. Репродукцию иконы см.: Сегодня Вечером, 1940, №43, 22 февраля, стр. 1; там же (стр. 6) см. интервью Т.Косинской (Е.К, «Мо¬ление о чаше» работы Т.В.Косинской»), где отмечено, что для иконы «Иеруса-лим, спуск в Иосафову долину, Гефсиманский сад сделаны по зарисовкам с натуры».
67.Струнке Никлавс (Strunke Niklavs, 1894-1966, Италия), живописец, график, сценограф; учился в школе Общества поощрения художеств у И.Репина и И.Билибина, в Школе живописи, рисования и скульптуры М.Бернштейна, был близок к мирискустникам. Выставка Н.Струнке, приуроченная к 25-летию его творческой деятельности, была устроена в Художественном музее. См. о выставке: «Māksla un rakstniecība», Jaunākas Ziņas, 1940, №44, 22.febr., 2. lрр.; «Чествование Никлава Струнке», Сегодня, 1940, № 57, 27 февраля, стр. 6. См. о Н.Струнке: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. III. sēj., 116.lрр; Benezit Dictionary of Artists. Vol. 13, р. 462.
68. Эта работа отмечалась в числе привлекавших наибольшее внимание зрителей. См.: “Niklava Strunke godinašana”, Jaunākas Ziņas, 1940, №46, 26.febr., 6. lрр.
69.Константин Анисимович Павлов (1907-1976), иконописец. См. о нем: В.Бара¬новский, Г.Поташенко. Староверие Балтии и Польши. Краткий исторический и биографический словарь (<Вильнюс>: Аіdаі, 2005), стр. 274-275. Ср. прим. 1.
70.Вероятно, именно эта мозаика установлена на одной их могил Покровского кладбища в Риге. Фотографию см.: С.Видякина, С.Ковальчук. Покровское кладбище. Слава и забвение (Rīga:Multicentrs, 2004), стр. 273. В книжницс Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины хранится анонимная мозаика, по сегодняшним рассказам, доставленная туда с разрушенных могил соседнего кладбища и нуждающаяся в авторской атрибуции (Е.Климов?).
71. Убанс Конраде (Ubāns Konrads, 1893-1981), живописец, график, театральный художник. В 1910-1916 гг. учился в Одесской, Рижской и Пензенской худо¬жественных школах. См. о нем:Māksla un arhitektūra biogrāfijas. III.sēj., 230. lрр.; Веnezit Dictionary оf Аrtists. Ѵоl. 13, р. 1314.
72.Климов Алексей Евгеньевич (род. 1939), сын Е.Е.Климова, славист, проф. Vassar College (США), переводчик.
73.Для какого издательства работал Климов — сведений нет. Вероятнее всего, издание не состоялось.
74. Радлов Николай Эрнестович (1889-1942), художник-график, критик, Цитируемая статья была опубликована в журнале Детская Литература, 1940, N1 4; в сокращении републикована в книге: Н.Э.Радлов. Избранные статьи (Москва. Советский Художник, 1964), стр. 160-161.
75. Ср.: Т.Шор, «Русские писатели и исторические деятели в именах и фамилиях эстонского Принаровья», Даугава, 2006, № 5/6, стр.153-158.
76.В оригинале год указан в буквенном выражении.
77. Вероятно, Александр Михайлович Денисов (1881-1955), скульптор, мастер-камнерез. См. о нем: С.Г.Исаков. Русские общественные и культурные деятели в Эстонии. Материалы к биографическому словарю. Том I (до 1940 г.). Словник (Таллинн, 2006), стр. 62.
78.Логина Зента (Logina Zenta, 1908-1983), живописец, художник по текстилю; училась в Латвийской академии художеств, частных студиях. См. о ней: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II.sēj., 91. lрр.
79.Ср.: Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи в двух томах. Том 2. (Мос¬ква: Искусство, 1966), стр. 152, 436.
80.Режиссер В.Н.Николаи, музыка В.Дешевова и С.Шатуряна. Ленфильм, 1939; демонстрировался в Риге со 2 сентября 1940 г. (см. рекламу: Трудовая Газета, 1940, № 58, 2 сентября, стр. 11).
81. Режиссер Я.Л.Миримов. Мосфильм, 1939; демонстрировался в Риге с 9 сентября (см. рекламу: Трудовая Газета, 1940, № 64, 9 сентябррря, стр. 9).
82. И.Грабарь (был знаком с П.Чайковским) — один из участников докумен¬тального фильма о композиторе.
83. Головин Александр Яковлевич (1863-1930), театральный художник, живопи¬сец, график, мемуарист. Имеется в виду книга: А.Я.Головин. Встречи и впечатле¬ния. Воспоминания художника 1863-1930 (Ленинград - Москва: Искусство, 1940).
84. Речь идет об основанном в феврале 1941 г. Рижском дворце пионеров и школьни¬ков, который разместили в Рижском замке, б. резиденции главы государства независимой Латвии.
85.Масковский Лео Карлович (Maskovskis Leo,1882,Межмуйжа, Латвия – 1979? Мюнхен?) — оптант,рижский коллекционер, предприниматель, в 1930-х гг. автор и одно время редактор журнала «Mednieks un Makķerniks» («Охотник и рыболов»). В 1939 г. По репатриационной программе выехал в Германию ( см. об этом:Izceļojušo vacu tautības pilsoņu saraksts. [Rīga]1940. P.961). О его богатой коллекции русской живописи см.: Кrievu gleznu izstāde beidzamos divos gadsimteņos по 4.līdz 18. decembrim 1932.g.= Выставка русской живописи двух последних столетий в Рижском городск<ом> музее с 4 по 18 декабря 1932 г. [Rīga, 1932]. Кто приобрел «Левитанов» у Л. Масковского — сведений нет; во всяком случае, в сегодняшнем собрании Национального художественного музея Латвии не числятся работы И.Левитана, когда-либо поступившие в музей из коллекции Л.Масковского. В последние годы имя Л.Масковского активно упоминается в художественном мире в связи с сомнениями в подлинности одной из работ Б.Костодиева, ранее принадлежавше Л.Масковскому, а несколько лет назад проданной на аукционе «Кристи».
86.Вероятно, речь идет о пейзаже А.Саврасова «Летний день», с которого, как следует из других записей Климова, он в 1941 г. делал копию (по оригиналу из Рижского художественного музея?); в сегодняшнем собрании Национального художественного музея Латвии работа А.Саврасова под таким названием не значится.
87. Васильев Фёдор Александрович (1850-1873), живописец, пейзажист.
88.Отмеченные работы Б. Кустодиева и В. Боровиковского входят в собрание Национального художественного музея Латвии.
89. См.: Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка 1806-1858 гг. (С.-Петербург: Изд. М.Боткина, 1880).
90. Я.Бартушевскис — рижский книгопродавец и антиквар.
91.См. выше предисловие к «Заметкам».
92.Ср.: В.В.Вересаев. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидете¬льств современников. Кн. 1 (С.-Петербург: Лениздат, 1995), стр. 90-91.
93. А.Гаман — коллекционер. О некоторых экспонатах его коллекции см.: Krievu gleznu izstāde beidzamos divos gadusimteņos Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 4. līdz 18. Decembrim 1932.g. Выставка русской живописи двух последних столетий в Рижском городск<ом> музее с 4 по 18 декабря 1932 г., № 13, 26, 27.
94. Ср. запись от 3 декабря 1942 г.
95. Речь идет об Инне Самойловне Блюменталь (род. 1907 г.), ур. Майкапар, по национальности караимке, жене юриста Горация Захаровича (Зелиговича) Блюменталя (1904-1941, в женитьбе: Г. Бернхард-Майкапар), погибшем в Риж¬ском гетто. См. о нем:Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un iesību zinātņu fakultātes Tiesību zunatņu nodaļas absolvenu dzīves un darba gaitas (1918-1944) (R.,1999).;іѴілгрц/акиі- іаіез ТіеяЬи ііпщи поііа\а$ аЬюІѵегии сіцѵез ип (іагЬа $аіш (1919-1944) (К.. 1999),46. lрр. По сведениям, идущим из семьи Е.Климова, И.С. Блюменталь еше при жизни мужа добровольно решила переселиться с детьми к нему в гетто (караимы по расовым законам фашистской Германии не преследовались), но при подходе к гетто она и двое ее детей были убиты выстрелами из окна. Рижские историки гетто сведениями о судьбе И.С.Блюменталь не располагают, версию о «выстрелах из окна» считают маловероятной.
96.Возможно, речь идет об одном из предвоенных изданий книги Е.Тарле «На¬шествие Наполеона на Россию. 1812 год». Внимание к этой книге могло быть выз¬вано декабрьскими военными событиями под Москвой.
97.Ср.: О.Шпенглер. Закат Европы (Новосибирск: Наука, 1993), стр. 331-332, 377- 379. Знакомство со Шпенглером очевидно отразилось в статье Е.Климова «За¬метки о живописи», Русский Вестник, 1944, № 44, 15 апреля, стр. 7.
98.Эта работа К.Петрова-Водкина, к настоящему времени утраченная, в 1922 г. входила в рижское собрание писателя И.Миесниекса (1896-1975), брата известного латышского художника К.Миесникса. См. об этом: Krievu mākslinieku gleznu un zimējumu izstādes katalogs III. 14.Ѵ.-14.ѴІ.1922. — LТА. Mākslas zalons(< Rīga, 1922>), № 231); на 1932 г. владелец картины — Гринберг (І.Grinbergs). См. об этом: Krievu gleznu izstāde bidzamos divus gadusimteņos Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 4.līdz 18. Decembrim 1932.g. = Выставка русской живописи двух последних столетий в Рижском городск<ом> музее с 4 по 18 декабря 1932 г., №145. По описанию Климова, на картине был «изображен светловолосый мальчик в ярко-кумачевой рубахе, сидящий в углу избы под иконой». — Евгений Евгеньевич Климов. Художник, искусствовед, педагог, стр. 252. Копия работы Климова еще в 1980-х гг. находилась в одном из частных рижских собраний.
99. С 21 января по 22 февраля в Художественном музее проходила организованная оккупационными властями Первая всеобщая художественная выставка, в которой участвовало более 150 мастеров (из нелатышских авторов: В.Алексеев, Н.Богданов-Бельский, Д.Годыцкий-Цвирко, Г.Матвеев, О.Пенерджи, Н.Пузыревский, В.Степанов, с тремя работами выступил Е.Климов). Всего на выставке было представлено более 300 работ, из которых около половины было продано; картины Н.Богданова-Бельского (его работы — самые дорогие на выставке — 3 ООО RМ), Г.Матвеева, Д.Годыцкого-Цвирко были приобретены рейхскомиссаром и рейхскомиссариатом Остланда. См. о выставке: Kuntstausstellung Riga 21.I - 22.II. 1942. Deutsches Landesmuseum Riga [Каталог];
“Ceļa uz senu tradīcju atsākumu mākslā”, Laikmets, 1942, № 6, 6. febr., 28.-29. lрр.; “Rīgas mākslas izstāde kulturālās kopdarbības paudēja”, Laikmets, 1942, № 7, 13.febr., 28-29. lрр.; J.Kalnačs. Tēlotājas māksla dzīve nacistiskās Vācijas okepētajā Latvijā 1941-1945, 94.-96. lрр. Отметим, что богато иллюстрированная книга Я.Калначса и может служить путеводителем по искусству Латвии 1941-1945 гг.
100. Выставка В.Пурвитиса экспонировалась в Художественном музее с 29 марта по 26 апреля. На открытии выставки было оглашено приветствие рейхсминистра по делам оккупированных территорий А.Розенберга, некогда ученика В.Пурвитиса в Таллинне. (Рисунки А.Розенберга 1918 г. см. в ж. Ostland, 1942, № 1.) О выставке см.:J.Kalnačs.Tēlotājas māksla dzīve nacistiskās Vācijas okepētajā Latvijā 1941-1945, 101.-103.lрр. Среди отзывов на выставку ср.: A.Eglītis. «Vilhelma Purviša izstāde». Tēvija, 1942, № 76, 1.арг., 8.lрр.
101.Сопоставление Пурвитиса с Валтером и Розенталем вызвано тем, что все трое (выпускники Петербургской академии художеств) — признанные мастера латышской живописи, ее основоположники.
102. В августе 1941 г. на оккупированной Германией территории Северо-Запада СССР была образована Псковская православная миссия, при которой вскоре была создана художественная мастерская. Условия работы мастерской в условиях войны и предшествовавшего этапа советской антирелигиозной пропаганды были далеки от традиционных. В 1941-1943 гг. с открытием множества храмов на территории, окормляемой Псковской миссией, возникла настоятельная потреб¬ность в церковном убранстве. За первый год ее работы из мастерской вышли десять иконостасов, более трехсот больших икон, значительное число малых, церковная утварь. См.: «Иконописная мастерская в Пскове», За Родину, 1942. № 53, 10 ноября, стр. 3; «Псков. Годовщина иконописной мастерской”, там же. 1943, № 22, 28 января, стр. 3; С.Князев, «В церковно-художественной мастерской», там же, 1943, № 295, 17 декабря, стр. 4. См. также: Финансовые документы иконописной мастерской и магазина Управления Православной миссии в г. Пскове. І-ХІІ. 1942; Список служащих и работников Управления производственных предприятий Православной миссии в г. Пскове (Центральный гос. архив С.-Петербурга, ф. 3355, оп. 18, ед. хр. 3, 9).
103. Вероятно, реминисценция из стихотворения Ф.Тютчева «Весенние воды».
104. Хранившаяся в одной из церквей Тихвина икона Тихвинской Божией Матери, после падения города осенью 1941 г., числилась за так наз. «опера¬тивным штабом Розенберга», который занимался сбором и дальнейшим распределением захваченных культурных ценностей. Не позднее конца 1941 икона была передана во Псков и 1 января 1942 г., незадолго до Рождества, была впервые явлена псковичам. См. об этом: В.Гарцева, «Икона Тихвинской Божьей Матери — во Пскове», Правда (Рига), 1942, № 4, 24 января, стр.2. Временно икона хранилась в городской комендатуре (по соображениям сохранности? в ожидании экспертизы? в видах ее дальнейшего перемещения?), в распоряжение Псковской миссии выдавалась на воскресные и праздничные дни. 22 марта 1942 г., накануне Пасхи, приходившейся в 1942 г. на 5 апреля, икона была в торжественной обстановке передана непосредственно Миссии, где ее и мог 13 апреля осмотреть Климов. Обращает на себя внимание его замечание о «хорошо реставрированном» памятнике. Возможно, в этой реплике идет речь о неизвестном специалистам этапе реставрации иконы, произведенной на пути движения иконы из «штаба Розенберга» во Псков. В марте 1944 г. икона была перемещена в Ригу, потом оказалась в Германии, затем в США, побывала и в Канаде, где Климов с помощниками «немного почистили икону, положили толстый прозрачный пластик между самой иконой и ризой, чтобы риза не царапала икону, и заменили длинные железные гвозди, которыми риза крепилась к иконе, медными винтиками» — Е.Е.Климов. Встречи в Петербурге,Риге, русском Зарубежье. Из воспоминаний художника, стр. 73. Об иконе см.: Л.А.Колесников, протоиерей Александр Гарклавс. Возвращение. Тихвинская икона Божией Матери (С-Петербург: Арс, 2004); Н.Коняев. Тихвинская Чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Обретение. История. Возвращение (С.-Петербург: Сатис, 2004); Чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы (Рига: Издание Синода Латвийской Православной Церкви, 2004); Tihvinas Dievmātes ikonas patvērums(Rīga, 2004).
105. Речь идет о костеле св. Петра и Павла — памятнике позднего барокко (вторая пол. XVII вв.). Архитектор — Ян Заор из Кракова; авторы внутреннего убранства костела (одних фигур более 2 000) — итальянские мастера Дж. Перти и Дж. Галли.
106. Слендзинский Людомир (Slendzinsky Ludomir, 1889-1980), польский художник.
107.Имеется в виду Вильнюсская православная церковь св. Параскевы (Пятницкая), где в 1705 г. в присутствии Петра I крестили Абрама Петровича Ганнибала, предка А.С.Пушкина.
108.См. отзыв о выставке в латышской печати: “Lietuviešu māksla”, Tēvija, 1942, № 102, 5.maijs, 6. lрр.
109.Большое количество работ Н.Рериха, исторически связанного с Латвией (см. новейшие работы по теме: I.Silārs, «Rērihi Kurzemē: leģendas un arhīvu dokumenti», «Nikolaja Rēriha vectēvs – Rērihs vai fon der Rops?», Latvijas arhīvi, 2005, № 2, 61.-80. lрр.; 2006, №1, 42-50. lрр.), в 1930-х гг. было подарено художником Латвийскому рериховскому обществу, где Е.Климов и мог познакомиться с картинами. Во второй половине 1940-х гг., при аресте бывших членов Рижского рериховского общества, это собрание работ было конфисковано и передано в Художественный музей.
110В альбом Климова Ostlandbilder вошли три работы, связанные с поездкой п Литву.
111.Ковалевска Маргарита (Коѵalevsка Маrgaritа, 1910-1999, США), живописец, книжный иллюстратор, писательница; выпускница Латвийской академии худо¬жеств. См. о ней: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II.sēj., 35.lрр. Ср. о выставке; А.Eglītis, “Akvareļu izstāde Zviedru vārtos”, Тēѵіjа, 1942, № 110, 14.maijs, 6. lрр.
112. Возможно, речь идет о художнике А.Черневскисе (Černevskis Arvīds, ?-1950), См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. IѴ. sēj, 71.lрр. Сведения о персональ¬ной выставке Чернявскиса (Черневскиса) нами не обнаружены.
113. Макаровский Александр Иванович (1888-1958), выпускник Псковской духовной семинарии, педагог, историк-краевед, позднее — профессор Ленин¬градской духовной академии. Альбом литографий Е.Климова По Печерскому краю (Рига, 1938) вышел со вступительной статьей А.Макаровского. Мария Степановна — его жена. См. о них: Е.Е.Климов. Встречи в Петербурге, Риге, русском Зарубежье, стр. 45-49, 74.
114. Скучс Янис (Skučs Jānis, 1908-1998), живописец. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. III.sēj.., 58. lрр.
115. Некий рижский предсказатель.
116. Сын Евгения Евгеньевича, род. в 1936 г.
117. Речь идет о Нине Онуфриевне Орловой (1894-1980), рижской учительнице, корреспондентке И.А.Бунина; в 1930-х гг. публиковалась в газ. Россия (Нью-Йорк).
118.Norītis Oskars (1909-13 окт.1942), живописец, график, сценограф; учился в Латвийской академии художеств. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II.sēj., 145.-146.lрр.
119. Имеется в виду Кооператив работников изобразительного искусства.
120.Видбергс Сигизмунд (Vidbergs Sigismunds, 1890-1970, США), график, книж¬ный иллюстратор, дизайнер, педагог; учился в Центральном училище тсхнического рисования барона Штиглица. См. о нем:Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР.Latvian SSR State Academy of Art, стр. 265-266; Māksla un arhitektūra biogrāfijās .IV.sēj., 48.lрр.; Benezit Dictionary of Artists. Ѵоl. 14, р.282. Упомянутая книга: O.Liepiņš. Sigismund Vidbergs (Rīga, 1942).
121. См.:S.Vidbergs. Егоtіка. 24 zimējumi, аг V.Реnģerota priekšvārdu (Rīga: Saule, <1926>);Sigizmunds Vidbergs. Erotiskas eleģijas. Sigizmunds Vidbergs. Erotic Elegles. Sigizmunds Vidbergs. Erotische Elegien. Sast., apceres un kataloga aut. M.Bērziņa (Rīga: Valters un Rapa, 2004); иллюстрации к Камасутре - см.:Kama sutra (Rīga: Ars. <1931>).
122. Имеется в виду: А.Я.Флауме, М.И.Добротворский. Родной язык //. Учебник русского языка для начальной школы. Второй год обучения. Рисунки художницы Т.А.Качаловой. Обложка художника В.М.Буша (<Рига>: Новое время, 1942), Качалова (ур. Розеншильд-Паулин) Татьяна Александровна (род. 1915), учитель рисования, педагог, музейный работник, историк искусства. Училась в Риге и студии К.Высоцкого. См. о ней: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР. Latvian SSR State Academy of Art, стр. 209-210.
123. Ср.: В.Розанов. Уединенное (Москва: Издательство политической литературы, 1990), стр. 56, 29, 28, 58 , 60, 49 , 67.
124.Аутершф Паулина (Полина) Леонгардовна, коллега матери Е.Климова по женскоИ гимназии в Митаве (Елгаве) в 1890-х гг. См. о ней Е.Е.Климов, Балтийский Архив, ар. 241,
125.Šariņš Jānis (ум. 19 нояб. 1942 г.), литограф Латвийской типографии ценных бумаг. Некролог см.: Тēѵііа, 1942, №270, 19. поѵ., 7.lрр.
126.Друя Эльза (Druja-Foršu Elza (1906-1991), график, живописец, книгоиздатель; окончила Латвийскую академию художеств. См. о ней: Māksla un arhitektūra biogrāfijās,I sēj. 132.lрр.; Е.Šturma, “Gleznotāja Elza Druja-Foršu”, Latvju māksla (Rockville), 1992, № 18,1768.-1777.lрр. Ср. о выставке: Oļģ.Saldavs. “Elzas Drujas darbu skate ”, Тēvija, 1942, № 263, 12. поѵ., 8.lрр.: А.Ваjārs, “Elzas Drujas asējumu, akvareļu un allas gleznojumu kopskatu”, Laikmets, 1942, № 17, 20.nоѵ., 17. lрр.
127. Даукшис (Даукше) (ур. Андреева) Валентина Андреевна (Daukšis (Daukše) Ѵаlеntіnа, 1905-1984), живописец, балерина; училась в Латвийской академии художеств; художник Кузнецовской фарфоровой фабрики (Рига), в годы войны трамвайный кондуктор, в послевоенные годы — на Рижском художественном комбинате «Максла». См. о ней: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. I sēj., 114. lрр. О выставке см. объявление: Tēvija, 1942, №265, 14. поѵ., 5.lар.
128.Годыцкий-Цвирко Димитрий И.(1901- ?), живописец, окончил Латвийский университет и Латвийскую академию художеств (1942), работал строительным инженером. Ср. о выставке: O.S
129.Пладерс Ото (Pladers Oto, 1897-1970), живописец; учился в Латвийской академии художеств. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās.II.sēj., 181.lрр. Ср. о выставке:O.Saldavs, “O.Pladera un R.Maura izstāde”, Тēvija, 1942, № 242, 19.окt., 6. lрр.; А.Ваjāгз, Saulainās un ziedošās ainas gleznotājs Oto Pladers“ , Laikmets, 1942, № 42, окt., 17. lрр.
130.Цирулис Ансис (Сігиііз Апзіз, 1883-1942), живописец, график, прикладник. Учился в художественных школах и студиях Риги, Петербурга, Парижа. См. о нем.: Māksla un arhitektūra biogrāfijās.I.sēj., 104. lрр. Ср. о выставке: J.St
131.Линде Николай (Linde Nikolajs, 1904-1980), живописец; учился в частных художественных студиях. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās.II sēj.,89.lрр. Ср. о выставке: J.Strazdiņš, “Gleznu skates Vecrīgā ”, Тēvija, 1942, №286, 9.dec., 6.lрр.; “Nikolaja Lindes darbu kopskate ”, Laikmets, 1942, № 51, 18.dec., 13. lрр.
132.Таубе Карлис (Taube Karlis, 1911-1993), живописец, сценограф; учился в частных художественных студиях. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. III sēj. 194. lрр.
133.Рикманис Янис (Rikmanis Jānis, 1905-1968), живописец, педагог; окончил Латвийскую академию художеств. См. о нем:Latvijas PSR Valsts mākslas aradēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР. Latvian SSR State Academy of Art, стр. 243; Māksla un arhitektūra biogrāfijās.II sēj.,221. Lрp. Cр. о выставке: 0lģ.Saldavs, “Jāņa Rikmaņa gleznu skate ”, Тēvija, 1942, № 287, 10.dec., 4.lрр.; А. В
134. Оригиналы работ «малых голландцев» (A.Wersalen, K.Molenar, A.Genoels) находятся в рижском Музее зарубежного искусства. См.: Valsts tēlotāu mākslas muzejs. Gkezniecības katalogs (Rīga, 1955), 60., 88., 94. lрр.
135. Ср.: П.Астафьев, «Урок эстетики (Памяти А.А.Фета)», Русское Обозрение, 1893, февраль, стр. 615.
136. Речь идет о выставочном салоне Кооператива изобразительного искусства, открывшемся в конце лета 1942 г.
137. Милтс Фридрих (Milts Fridrihs, 1906-1993, США), живописец; окончил Лат¬вийскую академию художеств. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II sēj., 128.lрр. Ср. о выставке:Okģ. S
138. М.В.Нестеров умер 18 октября 1942 г. На кончину художника Е.Климов откликнулся статьей «Поэт тихой жизни. Памяти М.В.Нестерова (1862-1941)», За Родину, 1943, № 4, 7 января, № 4, стр. 4. Климов возвращался к М. Нестерову и позднее. См. также другие отклики на смерть художника в рижской печати тех лет: В.Вегенов <Гадалин>, «Нестеров», Двинский Вестник, 1943. № 4, 16 января, стр. 4; В.Волхов <3авалишин>, «Мих. Вас. Нестеров (1862-1942)», Новый Путь. № 2, стр. 13.
139. В посвященной М.Нестерову статье Е.Климова 1943 г., как и в дневнике тех же дней, не было места критическим замечаниям в адрес недавно скончавшегося художника. Ср. дневниковую запись от 3-го августа 1939 г., в которой, отмечая свою близость к Нестерову, Климов писал: «Видел вчера картины: Поленова “Больная”, Нестерова “За Волгой” <...> Смотрю на Нестерова <...>. Почув¬ствовал родство в поисках <...>. Но поразился технической слабости Нестерова. Весь задний план написан жирно, пастозно, сочно, а передняя фигура и земля жидко и робко. Вода написана плакатно. <...>. Лессировок нет нигде, все написано щетинистой кистью. Чуть печальный образ женщины остается в памяти, но надуманность все же чувствуется, нет органической связи между сидящей в тоске фигурой и пейзажем с барками и буксиром».
140. Степанов Валентин Алексеевич (1886, Новая Ушица (Украина) - 1968, Рига), живописец, акварелист, скульптор. Окончил гимназию в Каменец-Подольске,Тартуский ун-т (юрист, 1913). Живописи учился у своего старшего товарища по гимназии М.И.Курилко (позднее известного графика и театрального художника), в студиях Таллинна и Риги. Первая выставка — 1918 г. (Аренсбург, Эстония). С 1927 жил в Риге, принимал участие во многих выставках, в том числе в Белграде и Софии, работал на Кузнецовской фарфоровой фабрике (Рига). См. о нем: А.Ваjārs, “Vecrīga V.Stepanova akvareļos”, Laikmets, 1943, № 4, 22.jапѵ., 60.lрр.; Лейкинд, стр. 546; Māksla un arhitektūra biogrāfijās. III sēj., 102. lрр.
141.Вика Хильда (Ѵīка Ніlda, 1897-1963), писательница, художник; училась в част¬ных студиях, работала в манере Art Deco. См. о ней: Hilda Vīka atmiņās, mākslā, rakstniecībā (Rīga: Рreses nams, 1997). Ср. о выставке: J.Strazdiņš. “Hildas Vīkas izstāde”, Тēvija, 1943, № 62, 15.шаг., 4.lрр.; А.Ваjārs. “ Hildas Vīkas gleznu izstāde ”, Laikmets, 1943, № 12, 189.lрр.
142. Крамарев Александр Яковлевич(?) (1886-1975), архитектор, художник; окончил Петербургскую академию художеств; с 1919 г. жил в Латвии, работал архитектором и проектировщиком, преподавал на архитектурном ф-те Латвийского ун-та, в частных студиях, в 1927-1941 гг. вел в Риге собственную студию; с началом войны эвакуировался из Латвии; в послевоенные годы работал в архитектурно-проектных учреждениях Латвии. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās, II sēj., 35.-36.lрр.
143. На выставке были представлены работы десяти графиков Латвии, как отмеча¬ла печать, — лучших из современных мастеров, в том числе работы Н.Пуэыревского и А.Юпатова. См. о выставке: О.Saldavs, “Grafiķu izstāde ”, Тēvija, 1943, № 79, 2. арг.,6. lрр. Плепис Янис (Plēpis Jānis, 1909-1947), график, учился в частных студиях. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II sēj., 183. lрр
144. Фегезакхольм — немецкое название одного из районов Риги (Вейзатьсала).
145. Ср. о выставке: А.Bajārs “Anša Cīruļa lietišķa māksla”, Laikmets, 1943, №13, 237.lрр.; Ѵ.Eglītis, “Anša Cīruļa liesmiņas izstāde Rīgā”, Daugavas Vēstnesis, 1943, № 81, 6. арг., 4.lрр.
146. О работе Е.Климова в Иоанновской церкви см.: А.Перов, «Художники Ю.Рыковский и Е.Климов возрождают в Риге старую русскую стенопись», Сегодня Вечером, 1932, № 192, 27 августа, стр. 3.
147. Либертс Лудолфс (Liberts Ludolfs, 1895-1959, США), сценограф, живописей, график, публицист, педагог; учился в Московском Строгановском художествен¬ном училише, в Казанском художественном училище, в студии И.Машкова и Москве, работал декоратором в Казанской опере, в 1920-х-1930-х гг., помимо Риги, работал в Литве, Югославии, Болгарии, Скандинавии. См. о нем: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР.Katvian SSR Statr Academy of Art, стр. 221-222; Māksla un arhitektūra biogrāfijās. II sej., 80.-81. lрр.; Веnezit Dictionary of Artists. Ѵоl. 8, р.1008.
148. Гейстауте Эрна (Geistaute Erna, 1911-1975), живописец, график. Училась в Латвийской академии художеств. См. о ней Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I sēj., 66.lрр. Ср. о выставке: A.Eglītis.“Е.Geistautes izstāde”, Тēvija, 1943, № 93, 16.арг., 4.lрр.
149.Свемпс Лео (Svemps Leo, 1897-1975), живописец, педагог; учился в Рижской духовной семинарии, где практиковался и в иконописи, в Москве учился в студии А.Большакова, в Московских государственных свободных художествен¬ных мастерских у И.Машкова. См. о нем: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР. Latvian SSR State Academy of Art, стр. 255-256; Māksla un arhitektūra biogrāfijās ,III sēj., 131.lрр.; Веnezit Dictionary of Artists Ѵоі. 13, р.561.
150. Циелавс Янис (Cielavs Jānis (1890-1968, США), живописец, педагог; окончил в Риге русскую гимназию, учился в Рижской Городской художественной школе, изучал право в Петербургском ун-те. См. о нем: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР. Latvian SSR State Academy of Art, стр. 188-189.
151. Третьяков Виктор Васильевич (1888-1961), поэт, переводчик, художник, литературный и художественный критик. В 1918-1920 гг. учился в Петроградском ун-те и Петербургской академии художеств, входил в студию Н.Гумилева. См.о нем: Ю.Абызов. Русское печатное слово в Латвии 1917-1944 гг. Био- библиографический справочник. Ч. IV. Ро-Я (Stanford: 1991), стр. 161-179. Ср. о выставке: Г., «Выставка худ<ожника> В.В.Третьякова», Двинский Вестник, 1943, № 18, 1 мая, стр.3; V.Varmelis. “Ргоf. Ѵ.Тretjakova studija”, Tēvija, 1943, №100, 29.арг., 6. lрр.
152. С 1 по 30 мая в Художественном музее проходила организованная оккупаци¬онными властями Вторая всеобщая художественная выставка. Из нелатышских художников вместе с Е.Климовым в выставке участвовали: В.Алексеев, А.Бельцова, Д.Годыцкий-Цвирко, Н.Лаже, Г.Матвеев, А.Петров, Н.Пузыревский, А.Ры¬жов, В.Степанов, А.Юпатов. См. каталог выставки: Vispārēja mākslas izstāde Rīgā. Generālkomissāra Rīga valstspadomnieks Dr. DRECHLERA`S kunga protektorātā 1.V-23.V.Pilsētas mākslas muzejā. 1943. Ср. о выставке: “Atklāta Vispārēja mākslas izstāde”, Tēvija, 1943, № 102, 13.maijs, 3.lрр.
153. См. прим. 44.
154.Вероятно, по изданию: Валентин Александрович Серов.Переписка 1884-1911 (Ленинград - Москва: Искусство, 1937).
155.Эберштейн Гарри (Ēberršteins Harijs, 1906-1964, Венесуэла), живописец, график, портретист. Учился в Латвийской академии художеств, окончил Брюс¬сельскую Академию художеств. См. о нем: Māksla un arhitektūra biogrāfijās I sēj.,140.lрр. Ср. о выставке: И.И.,«На выставке художника Гарри Эберштейна», Двинский Вестник, 1943, № 22, 29 мая, стр. 4; J.ST
156. О выставке «фигуралистов» (от латышского “figurālā glezniecība” — фигуративная живопись) в составе 14 авторов, в большинстве — малоизвестных, ср.: Oļģ.Saldavs, “Figurālās glezniecības izstāde”, Тēvija, 1943, № 146, 25.maijs, 4.lрр.
157. Лагимов (Ладимов) Александр И. (1903-1990). См. о нем: “Tēlot. mākskas studijas „Spektrs biedri Aleksandrs Lagimovs 1903-1990”, Literatūra un Māksla, 1990, 15.dec., 15.lрр.
158. Имеется в виду: А.Бенуа. Русская школа живописи (С.-Петербург: Т-во Р. Го¬лике и А. Вильборг, 1904).
159.Миклухо-Маклай Николай Николаевич(1846-1888),путешественник, автор записок.
160.Речь идет о брате Е.Климова — Павле (домашнее имя — Паля) Евгеньевиче Климове (1899-1970), инженере.
161. Упомянутые альбомы: Z.Ligers.Bogdanoff-Bel`sky. Leben und Werk des russischen Malers(Rīga: Z.Ligera apgads,1943);Vilhelms Purvītis.Mākskinieku 12 ainavu krāsaino reprodukcijas krājums, (Rīga: Izglit. Un kult. Lietu ģenerāldirekcija, 1943).
162. Cм. каталог выставки: I.Latvijas kokgrebumu izstāde по 2.-22.janv. 1944 g.
163. Вероятно, Е.Климов имеет в виду коллективную выставку русских художни¬ков (см. о таковой в записи от 14 апреля). Вообще русские художники Латвии (вместе с белорусскими и украинскими) во время войны участвовали не менее, чем в 30 коллективных и 10 персональных выставках, в т.ч. семи рижских (Н.Пузыревский, В.Степанов, Д.Годыцкий-Цвирко, В.Третьяков, В.Даукшис- Андреева, Ю.Ходацкий. Е.Климов); из рижских выставок четыре состоялись ранее климовской. Неполный перечень таких выставок см. в книге: Б.Равдин. На подмостках войны. Русская культурная жизнь Латвии времен нацистской окку¬пации (1941-1944) (StanfordSlavic Studies. Ѵоl. 26) (Stanford: 2005), стр. 90, 101, 103, 104. 106, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 124, 125, 126, 130, 133, 139, 15.1 161. 164.
164.Выставка проходила в галерее Кооператива изобразительного искусства с 21 января по 5 февраля. Из откликов на выставку см.: В.Гадалин, «Выставка картии Е.Е.Климова». Для Всех. 1944. № 1, январь, стр.37, 4-ая обл.; Б.Филистинский, «Поэт русского пейзажа». За Родину, 1944, № 18, 27 января, стр.4; О.Кравич <0.Полякова. Л.Осипова>. «Две экскурсии. Мысли вслух», За Родину, 1944, № 36, 17 февраля, стр. 3.; Б.Филистинский, «К выставке картин Е.Е.Климова», Русский Вестник, 1944, № 6, 13 января, стр. 3; «К открытию выставки картин Е.Е.Кли¬мова», Русский Вестник, 1944, № 7, 15 января, стр. 3; Б.Филистинский, «На выставке картин Е.Е.Климова*, Русский Вестник, 1944, № 12, 29 января, стр. 4; Oļģ.Saldavs, “Eižena Klimova izstāde ”, Тēvija, 1944, № 25, 31.jапѵ., 4.lрр.
165. С 6 февраля в той же галерее экспонировались работы Э.Баузе, З.Логиной, ТЛивде, Я.Раманиса. См. о выставке: О. Заісіаѵз, “Сеігі ішіасіе”, Тіѵуа, 1944, № 39, 16. ГеЬг., 4. Ірр
См. о выставке четырех художников из г. Резекне: О.Saldavs, “Rēzeknes mākslinieku izstāde ”, Тēvija, 1944, № 47, 23.febr., 6.lрр. Эгле Арвидс (Egle Arvīds, 1905- 1977), живописец, график, плакатист, педагог; окончил Латвийскую академию художеств. См. о нем:Latvijas PSR mākslas akadēmija. Государственная Академия художеств Латвийской ССР,Latvian SSR State Academy of Art, стр. 193- 194; Māksla un arhitektūra biogrāfijās I sēj., 141.lрр.
167. Ср. запись от 22 июля 1943 г.
168. Речь идет о В. И. Синайском.
169.Речь идет о выставке русских художников в Рижском городском художествен¬ном музее (16 апреля — 7 мая, продлена до 14 мая). На выставке было представ¬лено 210 работ 37 авторов: В.Алексеев, С.Антонов, А.Бельцова, Н.Благовещен¬ская, Н.Богданов-Бельский, О.Бенуа, И.Виноградова, К.Высотский, Н.Гиппиус. Т.Гиппиус, Б.Гейко, Д.Годыцкий-Цвирко, В.Даукшис-Андреева. Н.Домбровская, И.Калнс, Е.Климов, Е.Кларк, А.Крамарев, А.Ладимов (Лагимов), Н.Лаже,В.Лойко, М.Малахова, Г.Малышев, Е.Орлова, А.Петров, Ю.Рыковский, Н.Сабу¬ров, А.Савченко, И.Скучс, Е.Солянова, В.Степанов, В.Третьяков, И.Трофимова, Р.Шишко, А.Юпатов, М.Якоби. См. каталог: Gtmaldeverzeichnis der Ausstellung russischer Kunstler, veranstaltet von Russisscher Vertauensstelle zum Besten der Evakuierten. Rigaer StadtischesKunntsmuseum 16.4.-7.5.1944.Krievu uzticības Vietas evakuēto lābā mākslinieku gleznu izstādes katalogs. Rīga 1944 16/ІѴ. 7. V. Rīgas pilsētas mākslas muzejā. Каталог выставки картин русских художников, устраиваемой Русским Комитетом в пользу эвакуированных. Рижский Городской Художественный Музей 16-ое апреля — 7-ое мая 1944 г. (Рига, 1944). Выставку посетили 9 512 чел. — См.: Z.Konstans, “Rīgas mākslas muzeja okupāciju gados 1940-1990”, Doma. Rakstu krājums. 5.laid.(Rīga: 2000), 147.lрр. См. о выставке: В.Клыков <3авалишин>, «Выставка картин русских художников», Для Всех, 1944, № 5, май, стр.22-23; «Открытие выставки русских художников», Русский Вестник, 1944, 18 апреля, стр.3; Г.Алексеев, «Помни о красоте, не изгоняй ее облика из жизни...», Русский Вестник, 1944, 20 апреля, стр. 3; С.Зырянский <Аскольдов>, «Выставка картин русских художников в Риге», Русский Вестник, 1944, 20 апреля, стр. 4 (републиковано в журн. Даугава, 1996, № 6, стр. 116-118); В.Клыков, «Непосредственные впечатления. На выставке картин русских художников», Русский Вест¬ник, 1944, 2 мая, стр.6, 13 мая, стр. 3; О.Saldavs, “Krievu mākslinieku izstāde ”, Tēvija, 1944, 25. арг., 6.lрр.; “Ausstellung russischer Kunstler”,Deutsche Zeitung im Ostland , 1944, 15. Арг., № 104, s. 5; “Die Natur wirkt in der Kunst”,op. cit., 1944, 18. Арг., № 106, s.5; Schloss Lex.“Russische Kunst der Gegenvart. Zur Ausstellung im Rigaer Staadtlischen Kunsmuseum, op. Cit., 23. Арг., № 112, s.4;, Schloss Lex “Vielseitige Kunsereigniss in Riga”, Ostland, 1944, № 12, Jan., s.27-28 (упоминание в обзоре выставок). Биографические сведе¬ния о большинстве участников выставки см.: Б.Равдин. На подмостках войны. Русская культурная жизнь Латвии времен нацистской оккупации (1941-1944), раздел «Выборочный указатель имен». Открытие выставки предварялось «Замет¬ками о живописи» Е.Климова, опубликованными в Русском Вестнике накануне (№ 44, 15 апреля, стр. 7). Все рецензии, за исключением одной, были доброжелательными. Только некто П.Николаев (А.Макриди? Л.Львов?), в статье «Новая выставка. Картины русских художников в Риге», За Родину, 1944, № 88, апреля, стр.3 сурово заметил: «Некоторый анахронизм — коренной грех выставки. Все эти картины, рисунки, эскизы, смело могли быть датированы 1906-1908 годами. И по темам, и по манере письма, и по настроению».
170. Имеется в виду Ю.Г.Рыковский.
171.Якоби Маврикий Петрович (1906 -1938), живописец, выпускник Латвийской академии художеств. См. о нем: Ю.Абызов. Русское печатное слово в Латвии 1917-1944 гг. Био-библиографический справочник. Ч. IѴ. Ро-Я, стр. 400.
172. Имеется в виду Мария Романовна Малахова-Шпис (1903 или 1904-1987) художница. По рассказу ее мужа, Г.А.Малахова, М.Р.Малахова-Шпис поcле революции жила в Германии, Югославии (работала в музее в Скопье), училось живописи во Франции, участвовала в работе Трудовой крестьянской партии С.С.Маслова, неоднократно бывала в Эстонии, где ее и застала война. Затем снова эмиграция и снова возвращение в Эстонию (см.: htto://wwww.svoboda.org/programs/lived/2004/lived.050604.asp).Ср.: С.Г.Исаков. Русские общественные и культурные деятели в Эстонии. Материалы к биографическому словарю. Т. 1 (до 1940 г.), стр. 109, 186: О.Фигурнова. Русская печать в Эстонии 1918-1940. Био-библиографические и справочные материалы к изучению культурной жизни русской эмиграции (Москва: Наследие. 1998), стр. 34. В нашей книге На подмостках войны (стр. 403) Мария Романовна Малахова ошибочно атрибутирована как Мария Малахова (Малаховская)-Науэн.
174.С конца апреля и по 20 июля в Рижском городском художественном музее проходила организованная Отделом пропаганды рейхскомиссариата «Остланд» выставка икон, церковной утвари, фарфора, мебели, картин, вывезенных оккупационными властями из новгородских, псковских, павловских и царско¬сельских музеев. См. о выставке: Б.Филистинский, «Древнерусская икона. К выставке древнерусского искусства в Рижском музее», За Родину, 1944, № 105, 12 мая, стр. 4; Konstans Z., “Rīgas mākslas muzeja okupāciju gados 1940-1990”,Doma. Rakstu krājums. (R.,2000) 5. Laid. 147. lрр.
175.См.: Е.Е.Климов, «Воспоминания», Балтийский архив, стр. 285-348.