ПОКАЯНИЕ ЗА ОТЦА
Георгий Целмс (Россия)
Воспоминания в 3-х томах изданы в Москве в изд-ве «Госзнак» в 2008 году.
Книга первая
ПОКАЯНИЕ ЗА ОТЦА
"Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых" /К.Маркс, "18 брюмера Луи Бонапарта"/
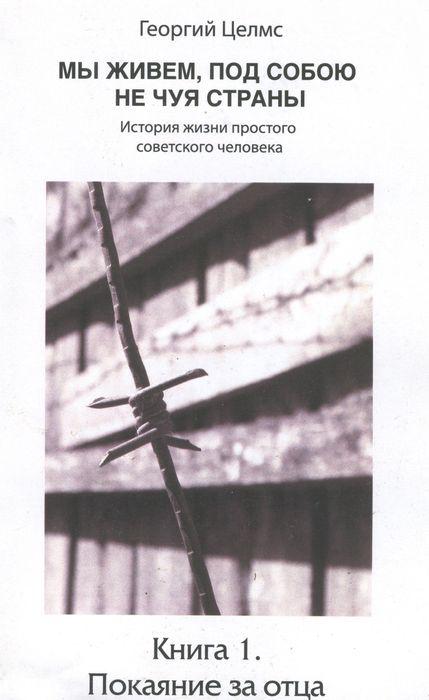 "Как мы дошли до жизни
такой..." - так назвала свои мемуары моя мать Лайма Целмс, завершая их
незадолго до смерти, на 85 году жизни. "Мемуары" эти - несколько
десятков тетрадных страниц, исписанных твердым, с левым наклоном почерком -
попытка осмыслить пережитое. Покаяние.
"Как мы дошли до жизни
такой..." - так назвала свои мемуары моя мать Лайма Целмс, завершая их
незадолго до смерти, на 85 году жизни. "Мемуары" эти - несколько
десятков тетрадных страниц, исписанных твердым, с левым наклоном почерком -
попытка осмыслить пережитое. Покаяние.
Среди людей её поколения, в особенности старых партийцев, мне почти не приходилось видеть и попытку раскаяния. Люди обычно подводили итоги пережитого словами: "Мы честно прожили свою жизнь", "нам не в чем себя упрекнуть". Или: "Мы верили". "Верили" как бы всё объясняло и оправдывало.
Для тех из них, кому сполна выпало сталинских тюрем и лагерей, такая оценка собственной жизни была вроде бы более справедливой. Ведь им досталась роль жертв, не палачей. Но в страшной драме тех лет палачи и жертвы часто менялись ролями.
Мать моя тоже прошла через тюрьму и ссылку. Мужа её, моего отца, расстреляли, как врага народа. И всё-таки к концу жизни она пыталась себя судить.
Нам из другого времени, глядя со стороны, вершить такой суд куда как легче. "Мы и в самом деле должны признать, что все случившееся отнюдь не может и не должно быть понято нами только, как страшное несчастье, беда и величайшая трагедия народа. Это и вина его, - пишет критик-публицист Игорь Виноградов /сборник «Иного не дано»/. Это вина и тех, кто был организатором и вдохновителем преступлений, и тех, кто был их исполнителем, и тех, кто знал о них, оставаясь их молчаливым свидетелем, а тем самым и соучастником, и тех, кто не знал, потому что не хотел знать, потому что незнание тоже не исключало их из участия в жизни, сеявшей смерть. И это вина даже тех, кто боролся, и, может быть, погибал в этой борьбе - вина, потому что они не сумели победить там, где поражение слишком страшно..."
Но на всех разная доля вины. И, конечно же, Игорь Виноградов вовсе не хотел посчитать равно ответственными тех, кто организовывал преступления, и тех, кто боролся, но не смог победить. Главная мысль: от покаяния не должен уйти никто. И мы с вами, уже в нашем времени, тоже. Потому что вольно невольно приняли и понесли эстафету отцов...
Отца арестовали 10 ноября 1937 года, когда мне было ровно два месяца. Надо ли говорить, что я его совсем не знаю? Сестре, которая старше меня на четыре года, повезло больше: она сохранила кое-какие ласковые воспоминания. А может и придумала их, глядя на фотографию - маленькая стриженая девочка сидит на коленях улыбающегося и тоже коротко остриженного человека. Меня и на фотографии с отцом нет. Идя на смерть, отец даже не знал моего имени. Они с матерью всё никак не могли договориться на этот счёт. Отцу хотелось почему-то назвать меня каким-нибудь редким, экзотическим именем. Скажем, Акакий. Мать категорически возражала. А может отец её просто поддразнивал? Судя по рассказам матери, он её часто разыгрывал. А с юмором у Лаймы всегда было не очень.
Вот так и ушел отец навсегда, оставив дома безымянного сына. Что он думал о нас в страшных своих камерах? В последнюю перед пулей минуту? Мне это никогда не узнать...

Моя сестра Лена на коленях у отца. Скоро, очень скоро он уйдет навсегда…
Каким был мой отец? Этот вопрос возник во мне не сразу. Ведь моё детство выпало на безотцовское поколение - у большинства одноклассников и друзей отцы погибли на войне. И считалось вполне естественным, что отца в семье нет. Мать нам с сестрой так и объясняла: ваш отец на войне, пропал без вести. Мы росли вовсе не чувствуя проклятья, нависшего над нашей семьёй. Моя сестра, восьмиклассница, писала, например, стихотворение о счастье, отмечая этот факт в своем дневнике: "Мне кажется, что это стихотворение сердечнее других. По-моему я всю жизнь была счастлива. Да и кто в такой стране несчастлив?". Сестра написала лучшее в городе сочинение на тему "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство". Её пером водили самые искренние чувства. В этом смысле я ничуть не отличался от сестры. Разве что не мог написать лучшее сочинение - грамотность, а вернее безграмотность, подводила.
После посмертной реабилитации отца в 1954 году у меня впервые пробудился к нему интерес. Мне было семнадцать лет, и, как и положено, в эти годы, я начал всё чаще вглядываться в себя: Какой я? Что во мне от матери? Что от отца? Мать то и дело находила сходные черточки: "Ты завязываешь шнурки совсем как он", "У тебя на носу капельки пота - это отцовское".
Позднее интерес к отцу перерос семейно-генетические рамки - отец был среди тех, кто творил историю. Ту самую историю, которая продолжала так драматично оказываться на нас. Он был далеко не второстепенным "действующим лицом". Да и мать не была статистом в той драме.
Как только я стал журналистом и научился худо-бедно рассказывать о чужих жизнях, у меня возникло желание написать об отце. Мои родственники твердили в один голос; "Ты должен». «Это твой сыновний долг». Тогда я стал активно "интервьюировать" свою мать, родных отца, немногих, оставшихся в живых его соратников.
Несмотря на раннюю смерть /отца расстреляли тридцати пяти лет от роду/, он по нынешним меркам прожил яркую жизнь; в шестнадцать лет /в 1918 г./ вступил в партию, добровольцем ушел на гражданскую войну, начинал земельную реформу в Средней Азии, был работником центрального комитета партии, секретарем Московского, Калининского, Воронежского обкомов партии, делегатом ХУ11 съезда "победителей", членом ЦК. Но по меркам своего времени это, в общем-то, обыкновенная биография. Десятки, а то и сотни жизней затмевали его короткую жизнь. И, как казалось мне, долг памяти следует заплатить в первую очередь им, Бухарину, например, Зеленскому, Рудзутаку... Ведь биографии этих людей были достоянием истории. Получалось, что биография моего отца, и тем более матери может быть интересна только нам - родным и близким. Моей дочери, сыну. Но мои дети и так в подробностях всё это знали. Так для чего же писать?
Отец ни разу не участвовал, ни в одной оппозиции, ни в одном уклоне. Он, как и моя мать, были твердокаменными, всегда "боролся за генеральную линию партии", И даже тогда, когда эта линия делала немыслимый зигзаг, а то и поворачивала прямо в противоположную сторону. Мои родители "без страха и сомненья" следовали ей, что считалось особой добродетелью. Добродетель эта, впрочем, ничуть не зачлась им в их роковые дни. Даже после XX съезда, когда узнали немало правды о том, какой была, подчас, "генеральная линия", ещё прочно оставалось в сознании: состоять в оппозиции хотя бы раз - грех, /Это и сейчас сидит во многих из нас/.
Помню встречу материных друзей - старушек, отсидевших на Колыме и в прочих подобных местах по восемнадцать лет. Это были жёны "врагов народа", которые и теперь уже в новом времени, вспоминая своих мужей, судили о прошлом именно так. "Мой ни разу ни в одной оппозиции не состоял" - с гордостью говорила одна. - А твой как-то поддерживал рабочую оппозицию". "Был грех" - виновато соглашалась жена человека, посмевшего раз отклониться от генеральной линии,
Вот ведь парадокс; все, кто беспощадно громил уклоны, думая, что идут единственно верным путем, сами вслед за Сталиным то и дело шарахались от уклона в уклон. Били, например, Троцкого, и тот час же, по воле своего вождя, переодевались в троцкистскую одежду.
А ведь были, были люди - и разве не о них следовало бы писать в первую очередь? - пытавшиеся бороться со Сталиным, не поддавшиеся его гипнозу, И Бухарин, и Томский, и Рыков, не говоря уже о Рютине. Каминский и Постышев, например, на июньском 1937 года Пленуме ЦК выступили, как известно, против того, чтобы арестовывали жён и детей "врагов народа" и были взяты под стражу прямо в зале. А отца именно на этом пленуме перевели из кандидатов в члены ЦК...
Когда отец проходил следственный конвейер, отсиживал за строптивость в карцере, мечтая о смерти, он и тогда, как видно из рассказа его последнего мучителя-следователя Неймана, никак не расставался с иллюзией, что Сталин ничего не знает, а здесь в тюрьме происходит чудовищная провокация. Мать, провожая его на Голгофу, искренне верила своим словам-утешениям: "Завтра же поеду к Сталину, и всё разъяснится". Мать - полный единоверец отца, ревмя ревела, узнав о смерти Сталина в башкирской ссылке. А я, продукт её воспитания, быстренько накрапал гладко зарифмованные стишки: "Горе великое в нашей стране. Скорбью полны миллионы сердец, Сталин любимый скончался в Кремле. Умер учитель, вождь и отец",
Словом, всё это и мешало мне долгое время взяться за перо - ординарность, так сказать, поведения моих родителей. Пока я не осознал вдруг, что этой своей ординарностью их жизнь как раз и интересна. Потому что сейчас нет важней вопроса - как мы дошли до жизни такой? Может быть, правдивый рассказ о жизни и заблуждениях моего отца и моей матери хотя бы в какой-то мере послужит поиску ответа, В этом было бы и искупление их вольной-невольной вины. Потому что "вина наших отцов и дедов остаётся на них до тех пор, пока она остаётся на нас, их детях и внуках. А она остаётся на нас, пока мы не искупим её сегодняшним нашим покаянием - за них и от их имени по праву и долгу нашего им наследия". Опять цитирую справедливые слова Игоря Виноградова. Но как же нелегко судить жизнь самых близких, не уподобляясь при этом библейскому Хаму... Вот ведь даже такой честный писатель как Камил Икрамов не дерзнул увидеть и рассказать вою правду о своём отце - романтически воспел его, не допустив и тени упрёка. Камил написал, что твердо знает: он хуже своего отца. Про себя могу сказать тоже самое. Но ведь не для суда пищу - для покаяния. Сам отец за себя это сделать не может...
Представляя мысли отца, мотивы его поступков, часто искал ответы в себе самом: как бы поступил на его месте? Поначалу казалось, что такая проекция вполне возможна "раз уж я даже шнурок завязываю как он". Мне не попадалась тогда на глаза арабская пословица; "Люди больше походят на своё время, чем на своих отцов". Чем больше писал, тем больше убеждался в её правоте.
Родители мои "чёрный ящик", Я знаю, что было "на входе: самостоятельность выбора пути, бунтарство, мужество, обостренное чувство справедливости. "На выходе" же, через каких-нибудь 10-15 лет: слепая вера, готовность без размышления подчинить свою волю и мысль партии, а вернее, её самозваным вождям, готовность голосовать как надо, молчать, где и о чём надо, закрывать глаза, когда надо. Что произошло с ними? Что произошло со всем их поколением? Моё поколение понять потомкам будет намного проще. У нас, увы, что "на входе", то и "на выходе". Так что не придётся ломать голову, скажем, над вопросом: откуда произросла в нас гражданская трусость или социальная апатия...
I. РЕКРУТЫ РЕВОЛЮЦИИ
"Гвозди бы делать из этих людей, Не было б в мире крепче гвоздей!" /В.Маяковский о большевиках/
Встреча моих родителей произошла в 1924 году в маленьком подмосковном городке Коломне. Революция вырвала многих молодым людей из родительских гнёзд, закружила на своих ветрах. Согласно только ей ведомой логике пути моих родителей пересеклись. Они двигались навстречу друг другу издалека.
Моя мать Лайма Целмс была дочерью вполне состоятельных родителей: бабка Милда держала частную гимназию в Риге, дед Юлий был директором банка, впоследствии депутатом Латвийского Сейма. Дед, должно быть, передал своей дочери революционные гены - он был социал-демократом, редактировал "Циню", подпольную газету, несколько раз сидел в тюрьме. После раскола партии дед стад меньшевиком, что и привело его к разрыву с дочерью. Дочь в шестнадцать лет, еще не окончив гимназии, вступила в партию большевиков.

Моя мать с лучшей подругой Гуной. Когда они эмигрировали из Латвии и поступили в московский комвуз, про них говорили: «У нас две новеньких латышки. Одна умная, другая красивая».
Учительница частной гимназии Анна Перле стала приобщать к марксистскому мировоззрению девочек 13-15-ти лет. Она давала им читать запрещенные книжки. Например, книгу Богданова "Красная звезда" - фантастический роман о революции на Марсе, Товарищами матери по кружку были Валя Юргеноон и Вильгельмина /Гуна/ Руберт. Справедливости ради надо сказать, что юная учительница стала увлекать девушек – подростков марксизмом в то короткое время, когда в Латвии организация всяческих кружков была легализована.
Мать вступила в партию большевиков в 1919 году в разгар белого террора. Красная Армия отступила из Риги - начались массовые аресты коммунистов. В это тревожное время Гуна Руберт, поручившись за Лайму, вовлекла её в нелегальную работу, Юлий Целмс был в тот год депутатом Учредительного собрания от фракции социал-демократов /меньшевиков/, и его квартира пользовалась депутатской неприкосновенностью. Это обстоятельство делало её весьма удобным складом для нелегальной литературы. Дед, понятно, до поры, до времени не догадывался, чем занимается его отличница дочь, и какая роль отведена его жилищу. Впрочем, забегая вперёд, окажу, что в 1934 году в дни ульмановского переворота, когда Сейм был разогнан, а левые депутаты арестованы, на квартире деда и его дружка Бруно Калныня (впоследствии председателя Социнтерна) – при обыске обнаружили склад оружия - сто пистолетов. /Так что дед и сам был хорош/. За это фашистское, как мы говорим, правительство Ульманиса дало обоим по три года тюрьмы. Такое бы преступление да на наш суд!
Лайма занималась пропагандистской работой, а также сбором средств для Красного Креста. На собранные деньги покупались передачи для политзаключенных. Администрация тюрьмы позволяла родственникам раз в неделю менять для заключенных постельное бельё, получая от них взамен грязное. Это был прекрасный канал нелегальной переписки. Многие революционеры, отведавшие рижского централа, впоследствии, в сталинских тюрьмах не раз вспомянут его теплым оловом. "Никаких нар в камерах не было. У каждого своя железная коечка, одеяло и подушечка, набитая ватой, и своё полотенчико. Вместо вонючей параши - металлический бак с крышкой. Мы его начищали, и он блистал, как самовар",- так написал в своих воспоминаниях о рижском централе старый большевик Адольф Абеле, которому, право же, было с чем сравнивать. "В камере, рассчитанной на 30 человек, находилось 150, Мы лежали на одном боку и переворачивались по команде - иначе невозможно было. Спали прямо на цементном полу", - это уже, понятно, о наших, не буржуазных тюрьмах. Я ещё не раз сошлюсь здесь на воспоминания Абеле, соседа матери по даче. Он так в своей жизни намерзся в северных лагерях, что даже в самые жаркие дни лета не снимал тёплого белья. Будучи глубоким стариком, он всё время говорил, что мечтает умереть в своей постели.
Перебирая в памяти факты биографии моих родителей и пытаясь за матерью вслед ответить на вопрос «как они дошли до жизни такой?», я то и дело возвращаюсь к первым их шагам в революцию. Революционная партия большевиков производила строгий отбор, требуя от каждого из своих рекрутов определенных качеств и черт характера. Её вступительные экзамены могли выдержать лишь твердокаменные...
Впервые мать арестовали через пару месяцев нелегальной работы. Но отец Лаймы, мой дед, был в то время весьма авторитетным у властей человеком. Он один из немногих был награжден боевым орденом Лачплесиса за мужество в сражении, когда на Латвию напали немцы. Из уважения к ному, блудную дочь через несколько дней вернули домой. Отец строго поговорил с Лаймой, призывая её угомониться. Лайма не угомонилась. Однажды Юлий неожиданно зашёл в ее комнату и застал дочь за счётом денег. Огромная их куча лежала прямо на кровати. Мать в то время являлась связной подпольного ЦК. Её "буржуазная внешность" - коса до пояса, манеры благовоспитанной гимназистки позволяли ей, не задерживая внимания шпиков, входить в здание советского посольств. Туда ходило немало людей узнать о судьбах своих близких в России. Так что конспирация была что надо. В посольстве Лайме давали деньги для партийной работы.
Юлий все понял, с первого взгляда - деньги для нелегалов, Разразился скандал. Юлий поставил ультиматум: "Или прекрати эти безобразия или убирайся из дома". "Пожалуйста, уйду!" "Только попробуй!" Юлий снял со стены охотничью плётку и сел стеречь дочь в гостиной, Лайма ушла через чёрный ход.

Отец Лаймы Юлий был директором банка в Латвии и одновременно социал-демократом. Твердокаменная большевичка Лайма на этой почве поссорилась с ним и ушла из дома.
Характерный эпизод из той её жизни. Лайма поселилась у подруги , тоже нелегалки. Мать подруги нелегким трудом прачки зарабатывала на хлеб себе и дочери, а тут добавился лишний рот. В общем, голодали. Однажды моя бабка Милда, разузнав, где укрывается её беглянка дочь, отправилась туда с огромной сумкой продуктов, Лайма от встречи наотрез отказалась, а когда узнала, что её подруга приняла всё-таки сумку, приказала ей немедленно этот дар вернуть. Такой вот суровый штрих к портрету.
Следующий раз свою мать Милду Лайма увидит лишь в 1952 году, через тридцать лат. Правда с отцом ей придется встретиться раньше.
В 1930 году Юлий Целмс в составе делегации Латвийской республики прибудет в Москву для заключения торгового договора. Мать в это время жила в Москве, она не виделась с отцом почти девять лет. И что же - бурная, радостная встреча? Отнюдь. Мать сначала советуется со своим мужем - имеет ли она моральное партийное право встретиться о "представителем буржуазного государства?" Отец считает, что такая встреча может скомпрометировать и её, и его. Так бы и не увиделись, если бы не Каганович. Лазарь Моисеевич был в ту пору начальником отца и, узнав случайно про обиду "иностранного представителя" /Юлий считал, что дочери запретили встречу власти/, позвонил моим родителям домой; "Надо встретиться, - посоветовал-приказал он, - иначе они там нас неправильно поймут». Итак, встретились, но без теплоты. Как вспоминает Лайма. Её муж и отец отчаянно хвастались друг перед другом - Юлий доказывал, что в Латвии сельское хозяйство развито лучше, чем в России. Отец же, безбожно привирая, пытался доказать обратное. /Он в то время "ведал" в ЦК сельским хозяйством/. Юлий, как запомнила мать, "был в ворчливом состоянии духа". "Зашёл в магазин купить запонки, а запонок нету", - жаловался он. "А в учреждениях ваши люди сидят в пальто - там почему-то не топят". Мать тотчас же обозвала его мещанином, а всю его критику мелкобуржуазным критиканством,
После встречи тонкая родственная ниточка окончательно порвалась.
Большевики, приехавшие в обетованную страну Россию из других стран, как правило, рвали все связующие их с прошлым нити - дружеские, родственные, культурные. Мать наша, например, и не подумала вас с сестрой обучить латышскому языку. Для неё в ту пору язык "буржуазной родины", как и сама родина, вроде бы и не существовали,
Люди без корней - обделенные судьбой люди. Но именно они выдерживали экзамены революции успешнее других...
Повествование увело меня слишком далеко вперёд, нарушая очередность событий, вскоре Лайму - было это в 1921 году - арестовали во второй раз. Теперь уже власти не намерены были шутить - предстояло длительное заключение. Но в этот момент происходит договоренность о советской Россией об обмене коммунистов-подпольщиков на пленных белогвардейцев. Как потом узнал, пленных белогвардейцев было мало – большинство расстреляли. Так что хватали всех латышей, проживающих в России (не стрелков, понятно) и использовали в обмене. Закадычную подругу Лаймы Гуну обменяли на известного латышского лингвиста Эндзелиньша, по учебникам которого она училась. На кого обменяли мою мать, не знаю. Она была уверена, что на белого офицера. Всего из Латвии в советскую Росию прибыло по обмену 120 революционеров. Через шестнадцать лет следователь НКВД опросит Гуну на первом же допросе;
- Мог среди этих 120 человек оказаться шпион?
- Очевидно, мог...
- Ну вот, видите. А почему же не предположить, что этот шпион вы?
И предположили. Гуну осудили и как жену врага народа, и по подозрению в шпионаже. Была такая бесхитростная статья, сокращенно "ПШ". Так что Гуна Руберт удостоилась сразу двух аббревиатур; ЧСВР /член семьи врага народа/ и ПШ /подозрение в шпионаже/. А вообще тех зловещих аббреввиатур было множество. Кроме уже упомянутых, КРД – контрреволюционная деятельность, КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность, КРА – контрреволюционная пропаганда, СОЭ – социально-опасный элемент…
Но до этого славного времени надо ещё дожить. А пока поезд мчит счастливых людей в счастливую страну победившей революции.
В отличие от своих товарищей по подполью, ехавших в тюремных теплушках, мать пересекла границу в дипломатическом вагоне - Юлий Целмс напоследок позаботился о комфорте своей доченьки. Однако это ничуть не смягчило большевистское сердце Лаймы. Когда в 1927 году её вызвали на Лубянку и поинтересовались "как она относится к отцу?", Лайма ответила "плохо!", что вполне удовтворил ее собеседника.
Узнав от матери об этом разговоре на Лубянке, я, естественно, спросил её: "Почему плохо? Ты же говорила, что любила отца". Мать ответила, не задумываясь ни на мгновенье: "Но ведь он стад меньшевиком. Стало быть, социал-предателем!"
Партия воспитывала своих солдат в атмосфере, когда "линии и платформы" были важнее людей, родных. И естественно родственные связи в расчёт не шли.
Итак, мать на Лубянке, но пока ещё не подследственная, а товарищ по партии. Ей здесь оказали высокую честь: предложили вернуться в Латвию для разведывательной работы. Она, якобы, раскаявшись, возвращается в лоно своей буржуазной семьи. За это ее, понятно, в России предадут анафема - исключат из партии. Лайма была в этот момент на седьмом месяце беременности, что ничуть не смущало ни её вербовщиков, ни её саму. Напротив, это обстоятельство было "плюсом" - помогало обмануть контрразведку.
Лайме предстояло, может быть, навсегда расстаться с мужем, с друзьями и ехать рожать в роли разведчицы. И она без колебания согласилась.
-Как ты могла? - закричу я, узнав об этом.
-Что поделаешь, партийный долг - ответит она.
По прибытию в Россию Лайму и её товарищей перво-наперво определят на учёбу в комуниверситет имени Свердлова, иначе "Свердловку". Мать тотчас же избавилась от своего буржуазного облика. Обрезала коротко косу, туфли заменила военными ботинками. Обрядилась в шинель и закурила. А вот ее подруга Гуна ничего подобного делать не стала. Ходила в туфлях на высоком каблуке и пр. Думаю, сказалось разное детство. Мать была из обеспеченной буржуазной семьи, Гуна из очень бедной. Не исключено, поэтому матери было легче отказаться от своей модной одежды. Как узнал из воспоминаний сына Гуны Юры, записанных с ее слов, в «Свердловке» говорили, что появилось две латышки. Одна умная, другая красивая. Когда много лет спустя появились первые сообщения о болезни «товарища Сталина», Гуна сетовала: «Выкарабкивается, наверное. Умирают только хорошие люди». Мать же тревожилась чрезвычайно. И как уже писал, ревмя ревела в день смерти монстра…

Лайма среди своих учеников, которым она преподает политграмоту.
Почти все старше ее.
Жили в общежитии, голодали. Раз разжились мукой, развели тесто и стали печь его, облепив электрическую лампочку. Естественно пришлось поедать вою стряпню сырьём. Это был, пожалуй, первый и последний опыт Лаймы что-нибудь выпечь. Готовить она никогда не любила, и даже при случае гордилась этим: "Есть дела поважней". В старости, живя в достатке, она вполне могла на свой день рождения вместе с осетровой икрой, добытой в ветеранском распределителе, подать на стол пятикопеечные ливерные пирожки и без смущения потчевать ими гостей. Моей жене доставалось, что умела хорошо готовить, да еще и шить. Что же касается "дел поважней" - это для Лаймы была политика. Уже умирая, чуть слышным голосом просила она меня в больнице рассказать об очередном пленуме ЦК. И лишь после моего подробного отчёта расспрашивала о внуках и правнуках.
Мой сын, когда был студентом, не найдя во мне в очередной раз интереса к року или авангарду, не без ехидства изрекал: "С папой ни о чём нельзя говорить, кроме как о политике". Видимо наш семейный политический ген на мне прервался. Не помогло даже наречение сына Михаилом - в честъ деда… Впрочем, моя «галанская внучка» неожиданно увлеклась политикой. Даже выбрала ее в какой-то мере своей специальностью
Среди преподавателей "Свердловки» по свидетельству матери, был бывший член ЦК меньшевиков Рубэн. Его на лекции привозили с конвоем из Бутырок. Мать вспоминала, каким либеральным был тогда режим в Бутырках - камеры не закрывались, заключённые ходили в гости друг к другу, могли покупать продукты. Некоторые, как видим, оставались при этом лекторами комвуза. /Будто бы добилоя этого Бухарин/. Да, ранние советские Бутырки действительно мало походили на Бутырки 30-50 годов. Но уже тогда в тюрьме сидели "за взгляды". И у матери даже не возникало вопроса - почему меньшевикам там место?
Впоследствии Рубэна ненадолго выпустят, и он затеет острейшую дискуссию о другим видным политэкономом - Бессоновым - о стоимости. Мне трудно судить насколько вопрос был актуальным, но, думаю, два серьёзных учёных спорили не о пустяках. Очевидно, матери и её полуграмотным друзьям-единоверцам уровень спора был не по зубам. Вот почему когда в него бесцеремонно вмешался корифей всех наук и едко высмеял спецов, которые, де, спорят о том, сколько чертей можно разместить на острие иголки, вместо того, чтобы разрабатывать теорию кризисов капитализма, все они дружно рукоплескали, "Нам это ужасно понравилось" - вспоминает мать. Оба спорщика в 1931 году прошли по "процессу меньшевистского центра" и были расстреляны.
Малообразованность, малокультурность - питательная среда всякого культа. Мы часто говорим о первом советском правительстве, как самом образованном правительстве мира, В доказательство же приводим знание иностранных языков. Да, революционеры, часто бывающие в эмиграции, языки знали. Но большинству из них приходилось учиться "понемногу, чему-нибудь и как-нибудь", больше полагаясь на самообразование. Вспомните, почти каждый из них за революционную деятельность изгонялся со студенческой скамьи, так и не кончив курса. Самоообразование же революционеров было весьма избирательно, сужено, так оказать, сверхзадачей, Маркс, Бебель, Каутский - вот их настольные книги. /Всё относительно конечно, и последующие наши правительства всё больше уступали первому по культуре, докатываясь до полного бескультурья/.
Революция строго отбирала своих пророков и героев, безжалостно бракуя "интеллигентскую мягкотелость". Это человеческое качество считалось смертным грехом. Да разве смогли бы "гнилые интеллигенты" принять "экспроприацию экспроприаторов", иначе разбой с "благородной целью?". Разве могли бы они смириться с расстрелом царской семьи "во имя высшего блага?" Разве смогли бы признать соцреализм "единственно возможным жанром искусства?"
Конечно, среди ленинской плеяды руководителей попадались ещё по-настоящему интеллигентные люди, А вот пришедшие им на смену молодая генерация, вскормленная, воспитанная по-сути дела уже Сталиным, отличалась более сильными характерами, но меньшим уровнем культуры и образования. Ещё меньшим. К этой генерации как раз и принадлежат мои родители.
Мать, как рассказывали её престарелые подруги, выделялась своей образованностью в кругу сверстников - всё-таки буржуазная гимназия умела учить. Позднее, в московский период жизни моих родителей, отец, подвозя жену на дачу, если случалось ехать в одной машине с Хрущёвым, всякий раз просил её "не высовываться", " не затевать разговор об искусстве». Чтобы мать, не дай Бог, не поставила Никиту Сергеевича в тупик. Так что на фоне других мать, видно, вполне сходила за интеллигентку. Но если разобраться - после неполного курса гимназии - два года учёбы в насквозь политизированном вузе - "Сверддовке", и такая же политизированная аспирантура. Мать вспоминала, например, какие строгие были её учителя. Один, например, требовал точно указать страницу "Капитала", на которой Маркс впервые упоминул выражение "прибавочная стоимость".
На долю матери ещё досталось немного систематических знаний, отцу же повезло и того меньше. Он окончил лишь гимназию, а потом все время учился урывками, вырывая минуты у отдыха и сна.
Мать вспоминает, что они насмешливо относились к "старикам", понимай, к ветеранам партии, среди которых попадались всё-таки интеллигенты. Молодёжь считала их путаниками, безнадежно отставшими от жизни. Молодые жаждали предельной ясности и полной определенности. Дорога к всеобщему счастью должна быть прямой, как стрела, без зигзагов и виражей, А старики, подчас, чересчур мудрили. "Радзутака мы, например, в своём кругу называли рудзу-так-рудзуэтак", - говорила мне мать. "Что это значило?" «А то, что он всегда хотел рассмотреть вопрос с одной и с другой стороны, Вилял».
Стремление Сталина упрощать теоретические сложности, раскладывая их по полочкам, им весьма импонировало. Импонировало и то, что Сталину неведомы были сомненья. /По крайней мере, он их публично никогда не обнаруживал. Сталин воегда знал как надо. Это уже потом поздним, так сказать умом, разглядим в этом качестве опасность: "Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто окажет; "Я знаю как надо!" И дальше; "Гоните его. Не верьте ему. Он врёт. Он не знает как надо". Это Галич.
После окончания "Свердловки" новоиспеченного знатока коммнистических наук девятнадцатилетнюю Лайму Целмс направили на работу в Коломенскую партшколу. В Коломне и произошла её встреча с моим отцом.
Путь отца в революцию был более простым, чем у матери - ему не пришлось рвать с буржуазным прошлым. Дед отца, мой, стало быть, прадед, был николаевским солдатом, за что еврейская семья заслужила право жить не за чертой оседлости. Жили в городе Покров Владимирской губернии.
Может, зря рассказываю эти семейные подробности? Пишу ведь не семейную хронику. Но иначе, боюсь, слишком упрощу задачу, представив читателям своих родителей лишь в роли твердокаменных большевиков. А они ведь были живые люди, И твердокаменные большевики тоже. Вот и попробуй, пойми: как это могло сочетаться?
Отец - старший ребёнок в семье. Его младший брат и сестра всегда с обожанием смотрели на Мишу. Он был для них непререкаемым авторитетом. /И таким остался навсегда/. Однажды мой пятилетний дядька стянул, несколько изюминок у уличного торговца. Десятилетний Михаил, увидев это, назвал своего братишку вором. Он так долго его стыдил, что дядька запомнил этот эпизод на вою жизнь, У мальчишек "всех времён и народов" подобное грехом не считается. Сколько помню своё детство, у нас воровство ранеток из чужих садов расценивалось как доблесть,
Отец рос романтическим юношей - большие чёрные глаза, темные, кудрявые волосы. Судя по подписям на фотографиях, подаренных Лайме, он оставался романтиком долго. "Кроме Коканда есть ещё много прекрасных мест ва земле. И мы обязательно до них дойдём, Лаймка" - это на фото в среднеазиатский период их жизни. Как сочетался этот его романтизм с суровыми, подчас, жестокими действиями /в коллективизацию, например/, которые он вместе со своими единоверцами совершал во имя идеи?
Не только младший брат и сестра, родители тоже восторгались старшим своим сыном. И никогда не осуждали его. Даже властная мать, моя бабка. Когда шестнадцатилетним юношей он "записался" в партию большевиков, вряд ли его родители были в восторге. Шёл восемнадцатый год - тревожное, жестокое время. Но поахали, да и только - "Миша знает, что делает". Позднее, в башкирской ссылке, секретарь партячейки райтопа - лицо всесильное в деревушке Ельдяк - скажет, что мой отоц враг народа. Бабка, узнав об этом, наденет своё старинное парадное платье со стекдярусом и пойдёт в контору. При разинувших рты сослуживцах она произнесёт слогом классических трагедий: "Вы недостойны целовать прах с ног моего сына!" И местный диктатор будет только испуганно пучить глаза.
До Коломны отец побывал уже на фронтах гражданской войны, поработал секретарем парткома Ходынки в Москве. В 1923 году /ему ещё не было двадцати/ он направляется да реботу в Коломенский уездный комитет ВКП/б/, где вскоре избирается секретарём. Однажды забастовали рабочие Коломенского паровозостроительного завода. Посланных к ним агитаторов из укома они слушать не захотели - прогнали. Собралось бюро укома, и члены его стали требовать, чтобы немедленно вызвали войска и призвали к порядку мятежников, Отец возмутился; "Против рабочих войска? Я сам к ним поеду!" Сначала и его не захотели слушать. Нимало не смушаяоь, отец залез на станок и произнёс пламенную речь. Кончилось тем, что его вынесли из цеха на руках - забастовка прекратилась. /Этот эпизод я вычитал из "Калининокой правды"/.
На Коломенском заводе отец впервые увидел мою мать, пламенного пропагандиста, путающего еще русские слова с латышскими. Директором завода в ту пору был член ЦК Урываев, считавшийся очень сильным агитатором и пропагандистом. Было у кого Лаqме учиться красоте слога. "Не банды Деникина, не банды Мамонтова не могуть (ударение на последнем слоге) повернуть колеса мировой революции!" - в таком стиле он проводил политзанятия. В 1937 г. он разделил общую участь…
Лайма, похоже, была неравнодушна к красоте слога. Именно потому ей правились речи Троцкого. Но Троцкий тогда ужа явно не годился для цитирования. Посему Лайма хитрила, выдавая его красивые цитаты за ленинские. Слушателей партшколы было обмануть легко, но не моего отца, который на этом "собаку съел". Положив глаз на юного агитатора, он повадился "проверять" работу партшколы. Проверки завершились тем, что отец поселился в комнате общежития, где жила мать со своей подругой Арфенечкой. Арфеня Караманян, оставив в Москве своего горячо любимого мужа Мишу Пятковокого, приехала в Коломну "орабачиватьоя", иначе, зарабатывать рабочий стаж для вступления в партию. В Москве была безработица, пришлось искать станок в Коломне. Впрочем, "станок" этот она нашла не на заводе, а в укоме. Работала там бесплатно, "за стаж". В наше время исполкомы будут набирать себе бесплатных работников за квартиру вне очереди…
Брак у моих родителей был "гражданский", то есть не регистрировался. У партийцев существовала тогда такая мода - "протест против мещанской морали". Не регистрировали свой брак и все материны подруги-большевички, что ничуть не помешало им идти за "вину" своих незаконных мужей и в тюрьму, и в лагерь, и в ссылку, поскольку во-время "не разглядели", "не разоблачили", "не донесли". Муж Арфенечки Пятковский, ответственный партийный работник был также расстрелян в 1937 году.
Мне трудно представить коллективный быт моих родителей-молодожёнов. Вскоре в одной комнате с ними кроме Арфенечки станет жить еще их друг Борис Баевский. "Наверняка у Арфенечки с этим Борисом были шуры-муры?" - предположу я. "Да что ты? - возмутится мать,- они были просто товарищи". Я никак не мог ваять в толк, почему Арфенечке нужно было жить в разлуке со своим Мишей Пятковским, а Борису со своей женой Ниной Поляковой. "Да как же ты не понимаешь? - поражалась моей бестолковости мать. Партия ведь нас расставила по местам, как было необходимо".
Позднее вся четверка окажется в Средней Азии, и опять в одной комнате с двумя кроватями. Поначалу мужчины спали на одной койке, женщины на другой. Наконец, мой отец не выдержал - перебрался к своей молодой жене. Арфенечка и Борис расположились "валетом", И так не день, не месяц - больше года.
Полное пренебрежение к быту - черта характера не только моих родителей, она была свойственна почти всему поколению революционеров. Отсюда пренебрежение к обычным, естественным человеческим потребностям, как к мещанским, обывательским. Отсюда "мещанин", "обыватель" - ругательства на долгие годы. Во имя будущего - пренебрежение настоящим. Черта эта не столько психологическая, сколько социальная, сослужила страшную службу. Сами жили, откладывая жизнь на потом, и других к тому принуждали. Девизом было: "Любые нынешние муки во имя завтрашнего всеобщего счастья". Потому и не горевали особо, обрекая на муки миллионы крестьян…
Борис Баевский, друг моих родителей, однажды в ранней университетской молодости проголосовал по оргвопросу за троцкистскую платформу. Его тот час же исключили из университета и послали исправляться к станку. /Как видим, не китайцы открыли этот воспитательный метод/. Все последующие годы Баевский каялся в грехе своей молодости, что, однако, ему ничуть не помогло - в 1936 году Баевского арестовали. Умер он в тюрьме "от дизентерии", как указано в справке. Будто бы отец пытался тогда заступиться за него - звонил Кагановичу. Лазарь Моисеевич помочь наотрез отказался и отцу воспретил "проявлять к этому делу интерес".
В Коломне, накануне предстоящей дискуссии с троцкистами, отец, заботясь о политическом целомудрии друга, дал задание Лайме и Арфенечке умыкнуть Бориса, чтобы тот не сидел в зале. "Вдруг его опять к троцкистам потянет?" Лайма с подругой задание выполнили, Впоследствии Лайма будет выполнять и другие поручения мужа "по борьбе с троцкизмом". Раз, например, когда твердокаменные чуть было, не потерпели поражение в очередной дискуссии - зал склонялся уже проголосовать за троцкистскую платформу - Лайме было поручено вырубить свет. Наступила кромешная тьма, поднялся гвалт, неразбериха - прекрасный повод перенести дискуссию. Детские шалости юного аппарата. Впоследствии аппарат значительно преуспеет по части процедурных ловкостей и уже не будет надобности вырубать в зале свет...
Кстати, студенты «Свердловки» также неустанно боролись с религией. Повязывали на головы платочки для маскировки и поднимали во время службы немыслимый гвалт. Знала бы Лайма, что постаревшие ее дети станут верующими: дочь – протестанткой, сын – православным…
Лайме запомнилось, как в Коломну приезжали Карл Радек и Лариса Рейонер. Мой отец, а значит, и мать опасались: вдруг Радек наговорит чего-нибудь лишнего - отступит от генеральной линии и увлечёт за собой массы. За Радеком такое водилось. Но гости вели себя смирно, выступать не рвались. Радек был в хорошем настроении, шутил, сыпал пословицами. Их слова он отчаянно перевирал: "Пуганая ворона на куст садится".
Радек слыл блестящим полемистом, так что его опасались не зря. Последний раз в жизни он использовал свой великолепный дар в Колонном зале Дома Союзов в январские дни 1937 года, когда в качестве подсудимого произносил своё последнее олово. Шёл, так называемый, "открытый процесс параллельного троцкистского центра" - Пятакова, Сокольникова, Радека и других. Подследственные вышли в зал суда после многих месяцев изощреннейших мучений и уже, казалось, ничего человеческого в них не осталось: семь дней они вдохновенно оговаривали себя и других. Семь же дней подряд сыпалась на их головы хулиганская брань генерального прокурора страны. Вышинский называл обвиняемых "изменниками Родины, шпиками и убийцами, морально ничтожными, морально растленными". И вдруг посреди послушно-покаянного "последнего слова" Радека неожиданно начинают звучать странные нотки.
Радек утверждает: данный процесс "показал, что троцкистская организация стала агентурой тех сил, которые подготовили новую мировую войну". "Для этого факта, какие есть доказательства? - вопрошает он и отвечает, - Для этого факта есть показания двух людей - мои показания, который получал директивы и письма от Троцкого, которые, к сожалению, сжег, и показания Пятакова, который говорил с Троцким. Все прочие показания других обвиняемых покоятся на наших показаниях". Стоп! Прервёмся на мгновение. Думаю, в этот момент государственный обвинитель почувствовал себя неуютно - вещдока, оказывается, не существует /документы, якобы, сожжены/. И все обвинение построено на показаниях двоих - Радека и Пятакова. А, вдруг, да сейчас подследственный откажется от них? "Если вы имеете дало о чистыми уголовниками, шпиками, - позволяет себе слегка поерничать, поглумиться над своим страшным оппонентом Радек, - то на чём можете вы базировать вашу уверенность, что то, что мы сказали, незыблемая правда?". И действительно, коли жулики - как можно верить им на слово? А никаких иных доказательств нет. "Поэтому оспариваю утверждение, - продолжает Радек и опять, верно, Вышинский ёжится, - что на скамье подсудимых сидят уголовники, которые потеряли все человеческое. Я борюсь не за свою честь... Я борюсь за признание правдой тех показаний, которые я дал. Правдой в глазах не этого зала, не общественного обвинителя, ... а значительно более широкого круга людей, который меня знал 30 лет и который не может понять, как я мог скатиться". Обреченный, находясь в жалком, безвыходном положении, он не удержался, чтобы не ткнуть своего обвинителя носом в явную несуразицу: не перебарщивай, если хочешь, чтобы кто-то тебе поверил. Но самое-то удивительное, что все равно все поверили, И многие холёные, воспитанные в своих классических правовых государствах иностранцы тоже. В прочем, до этого в своём повествовании я ещё дойду, А пока сообщу лишь, что Радека приговорили к 10 годам заключения и расстреляли, В недрах же ГУЛАГА исчезла Лариса Рейонер…
Коломенский период жизни моих родителей завершился внезапно. Неожиданно рано вернувшись с работы, отец оказал матери: "Срочно снимайся с партучёта. Через два часа выезжаем в Среднюю Азию - новое назначение". Подобным скоропалительным образом мои родители переезжали не раз. Это вообще было в стиле тех лет. Признаюсь, мне трудно представить свою властную мать в роли безропотной жены, которая в один миг оставляет работу, заталкивает в чемоданы мокрое, только что выстиранное бельё и несётся за мужем на край света. Но так было.
2. НЕТЕРПЕНИЕ
"Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других... Всякая попытка обойти, перескочить сразу от нетерпения, увлечь авторитетом или страстью - приведут к страшнейшим столкновениям и, что хуже... к поражениям!
/А.И.Герцен "Письма к старому товарищу"/
Думаю, что родители мои Герцена не читали. А если и читали, отнеслись весьма пренебрежительно к предостережениям «этого старика».
Ещё в поезде, а ехали четверо суток, отец обложился словарями, учебниками - начал изучать узбекский язык. По приезду, несмотря на огромную занятость, он продолжал свои лингвистические занятия с учителем, пока худо-бедно не овладел языком. Как не вспомнить мне здесь русских партработников, проживающих в нацреспубликах. В Латвии, например, я встречал таких, кто и поздороваться-то по-латышоки за долгие годы не научился. Однажды в городке Резекне разразился скандал, когда главврач городской больницы отправил в райком партии отчёт на латышском языке. Там сочли это недопустимой дерзостью, вернули отчёт со словами "на этом языке ваш отчёт не нужен".
В Средней Азии отец начал с заворга Ферганского обкома партии, затем из Коканда был переведен в Самарканд - заворгом Средазбюро. Первым секретарем этого бюро работал в те годы Исаак Зеленский, секретарями ЦК Узбекистана - Акмаль Икрамов и Владимир Иванов, председателем Совмина республики - Файзула Ходжаев, Все четверо пошли в 1938 году по, так называемому, открытому процессу "антисоветского право-троцкистского блока" вместе с Бухариным, Рыковым, Крестинским и другими. До сих пор не разгадана эта одна из страшных сталинских загадок: открытые процессы, когда известные всей страны люди в присутствии иностранных корреспондентов оговаривали себя…
Перед смертью сын Акмаля Икрамова Камил оказал мне: "Мы в долгу с тобой перед нашими отцами. Они не допустили приход сталинизма в Среднюю Азию".Я плохо знаю среднеазиатский период моего отца, да и был он весьма коротким - о 1925 по 1928 год. Но уверен, сталинизм тогда уже был повсюду. Как не горько это сознавать, он поразил уже сердца я души почти всех партийных работников. Это до поры до времени отнюдь не исключало личной честности, бескорыстия и самоотверженности в работе.
С первых же дней по прибытию в Коканд отец активно занимался земельной реформой. Суть её, как мы знаем из школьных учебников, заключалась в том, что "у баев изымалась земля и передавалась беднякам". Вроде бы вполне справедливое действие, но мы уже хорошо знаем, как шло раскулачивание, и как легко было попасть в кулаки. Да и в баи тоже. Знаю, что темпы реформы в Средней Азии были стремительные: видел копию письма в ЦК БКП/б/, подписанного Икрамовым и моим отцом - рапорт о темпах и обязательство эти темпы ускорить. Отца наградили за земреформу орденом Трудового Красного Знамени.
Бедняки не хотели брать чужую землю - ислам это категорически запрещал. Каким-то образом отцу удалось привлечь на свою сторону духовенство: муллы выступили в газете с письмом к верующим - агитировали за реформу. Вроде бы, свидетельство умелой политики, но ясно, что священнослужители пошли против ислама из страха перед большевиками.
Однажды отец дал матери задание подготовить "красные крестины". Она работала тогда в облпрофсовете - "ведала культурой" и, выполняя указание, должна была срочно разыскать трёх новорожденных - узбека, таджика и русского. Предполагалось новым советским обрядом вытеснить религиозный. Младенцы нашлись - два мальчика и девочка. Сам же отец придумал для всех троих одно имя: - Земреформа. Родители младенцев согласились на "красные крестины", так как советская власть выдала новорожденным хорошее приданное - пеленки, одеяла и пр. Ну а потом детей можно было назвать уже по-своему - как хотелось.
Привожу сей курьёзный эпизод вовсе не для того, чтобы посмешить читателя. Мне в нём видится характерный штрих к портрету моих родителей. И времени. Как же люди верили в своё дело, если уродливое олово "земреформа" звучало для них красиво!
Искоренить вековые предрассудки одним махом - это страстное желание чаще всего оборачивалось неудачей. Как-то решено было дать бой парандже. Устроили большой праздник, на который весь партийный актив должен был вывести своих жён с неприкрытыми лицами. Показать, так оказать, пример. Вывели, показали. Но как о горечью вспоминает мать, вернувшись, домой, женщины сразу же обрядились в привычную паранджу.
Думаю, нетерпение - отличительная черта всякого революционера. Это "нетерпение" обеспечит Сталину поддержку большинства в год "великого перелома" /"Великого перешиба", как назовёт его Солженицын/. И в год, когда "был отвергнут план сверхиндустриализации и вместо него погнали сверх-сверх-сверх индустриализацию". /Тоже Солженицын/. Но опять забегаю вперед. Пока ещё мои родители молоды, полны веры и энтузиазма. И живут они счастливо, взахлёб. Но я знаю о трагической развязке и потому обязан смотреть настороженным взглядом в эту романтическую даль...
Отец не вылезает из командировок. Он научился спать в седле и стоя в тамбуре вагона. Мать не отстаёт от него. Правда, "европейских женщин" в кишлаках встречают недоверчиво. Про них рассказывают всякие небылицы, которые все сводятся к одному - "эти женщины не имеют ни стыда, ни совести". Потому старухи первым делом лезут командировочным дамам под юбки – проверяют, есть ли у них трусы, Активизировались басмачи. Написал со слов матери и засомневался. Судя по энциклопедическому словарю, основные силы басмачества были разгромлены Красной армией в 1922 году, и как сказано здесь же, "отд. отряды окончат. ликвидированы в 1933 г." А мать утверждает: стали проводить эемреформу - активизировались басмачи.
В письме в "Литаратурку", озаглавленном "Басмачество: мифы и действительность", Мурат Дурдыев приводит такие данные: в 1919 году в Туркменистана было будто бы всего 200 басмачой. А в 1931 же году, когда многие районы были объявлены районами сплошной коллективизации, и развернулась скоропалительная кампания "перевода кочевников на оседлый образ жизни", так называемое басмаческое движение стало массовым; в составе басмаческих "банд" оказалось свыше 30 тысяч: всадников". Если считать, что один всадник выходил из одной семьи, - делает расчёты Дурдыев, - а средний демографический показатель семьи - 5 человек, то в "басмаческом движении" участвовало, так или иначе, 150 тысяч человек, примерно, 30 процентов тогдашнего сельского населения республики". Конечно, подобная методика расчёта не вполне убедительна, но вывод автора письма представляетя мне верным: "С басмачеством сомкнулось поистине всенародное сопротивление сталинским методам коллективизации сельского хозяйства". Давно пора ломать устаревшие стереотипы. Вот, окажем, мы почему-то людей, выступающих против советской власти в Средней Азии, называем басмачами, то есть бандитами. /Басмач от тюркокого "басман" - налётчик/. В Афганистане мы тоже до поры до времени иначе как душманами, бандитами наших врагов не называли. Впрочем, пора продолжать,
Однажды басмачи предложили вступить в переговоры. Условие их было такое: начальник ОГПУ Гафицкий является к главарю басмаческого отряда без оружия. И непременно - в одних подштанниках. Так очевидно было больше уверенности, что он не принесёт с собой револьвера, Гафицкий отправился на встречу - белые кальсоны с успехом заменяли флаг парламентария. Переговоры прошли успешно - басмачи решили сдаться властям. Характерная деталь: семьи басмачей никто и пальцем не трогал. Такое просто в голову никому не приходило делать их ответственными за вину отцов и мужей. Но скоро, скоро наступит такое время. Бесстрашный Гафицкий погибнет в самом начале 37 года. Мать не помнит, была ли у него жена и дети, но если были, им пришлось отвечать сполна...
Выйдя замуж за партработника, Лайма должна была, витиевато выражаясь, наступить на горло собственной песне: отец всегда задвигал её подальше от партийной работы, чтобы не имела места семейственность. Исаак Зеленский по этому поводу говорил: "На Лайму и Михаила действует центробежная сила". Мать поначалу чаще всего "ведала культурой", а затем, после окончания политэкономической аспирантуры - плановой работой. Но всегда на вторых ролях. В Коканде, например, её начальником был малограмотный выдвиженец, только что окончивший ликбез. Имя "Лайма" он выговорить не мог. И называл мать почему-то Ванькой или Ванечкой. Так что бескультуреые руководители культуры - тоже давняя наша традиция.
В Самарканде мать была замом у принципиального бездельника - он попал на свой пост, будучи разжалованным и принципиально ничего делать не хотел. Вряд ли мать считала возможным пожаловаться об этом дома мужу. Да и пожалуйся она, не стал бы он её слушать. Не принято это было.
Вскоре состоялся очередной переезд моих родителей - дав матери час на сборы, отец повёз её в Самарканд. Отца переводили туда заворгом Средазбюро ЦК, то есть повышали.
На вокзал моих родителей провожал секретарь ЦК Узбекистана Владимир Иванов. По рассказам матери я хорошо представляю эти проводы. Идут пешком, тащат на себе узлы, набитые воякой утварью. Прибегнуть к помощи казенного транспорта никому из них и в голову не приходит - переезжает ведь семья, поездка, стало быть, личная. Из узлов то и дело что-нибудь вываливается /паковались-то наспех/ - по мостовой гремят кастрюли, миски. Мать сердится. Мужчины оглушительно хохочут... На этом фоне новые узбекские руководители (имею в виду советское время), получающие миллионные взятки и понастроившие себе дворцы, выглядят особенно контрастно…
В Самарканде мать серьёзно заболела. У неё началась амебная форма дизентерии, /Чаще всего от этой болезни тогда умирали/. Кроме того, обострился туберкулез, которым наградила её голодная Москва 21 года. Врачи категорически высказались за переезд: "Вам здесь не климат". В 1927 году мать перебралась в Москву. Почти год мои родители жили в разных городах, пока в 1928 году отца не перевели на работу в аппарат ЦК ВКП/б/ - сначала инструктором, затем заведующим отделом по работе в деревне. Сталин перетряхивал свой штаб - готовился к генеральному сражению.
3. "ВПЕРЕД БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНЬЯ!"
"Куда спокойней раз поверить,
Чем жить и мыслить каждый день.
Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь,
В чьём сердце страх увидеть бездну,
Сильней чем страх в неё шагнуть",
/Наум Каржавин/
Но вот и подошло время жизни моих родителей, о котором мне труднее всего будет рассказывать. А между тем это важнейший переломный период: и удушение НЭПА, и сверхиндустриализация, и "ликвидация кулачества", и страшный крестьянский голод-мор, и первые политические процессы: «шахтинокого дела", "промпартии", «меньшевиков»... Это годы рождения ОСО - особого совещания, имеющего право судить безо всякого права, годы драконовских сталинских Указов /о "пяти колосках", например/, убийства Кирова и натравливание масс на троцкистов: "Ату их, ату!»?
С отцом мне не поговорить, не задать мучающие меня вопросы. Остаётся мать, верная его жена и соратник.
- Вы обсуждали это с отцом? - задаю я ей, в который уж раз вопрос. То по поводу коллективизации, то по поводу процессов, Но не может мать припомнить, что были в семье какие-либо опоры, сомнения. То ли память подводит? /Вроде бы мвть помнила прошлое очень отчётливо до самой смерти/. То ли действительно ни в чём, ни разу не усомнились? Мне не хочется так думать, и я всё спрашиваю и спрашиваю одно и тоже.
- Понимаешь, - как бы оправдываясь, говорит мать, - мы работали до поздней ночи. И почти не виделись. Раз я пришла домой в одиннадцать вечера, а домработница мне с порога; "Вы что, заболели, Лайма Юльевна?" Михаил однажды тоже чуть пораньше пришёл. А в три ночи звонит ему Каганович и страшно удивляется: "Ты уже дома?"
Мои родители, как и вообще люди их поколения, много работали, досуг их был краток. Но с другой стороны, если и говорили о чём, то, уверен, исключительно о политике. Так неужели же ни разу, ни в чём, никогда не усомнились? Не видели разверзающую бездну? Или летели туда, страшась раскрыть глаза? Гадаю, довольствуясь случайными эпизодами, косвенными свидетельствами.
- В 1927 году вся партия, - рассказываем мне мать, - дружно проголосовала за ссылку Троцкого. В 1929 году - за его высылку за рубеж, за лишение Советского гражданства.
- Но это же незаконно! - восклицаю я с высоты нынешнего правосознания.
- Для нас всегда воля партии была превыше закона, - изрекает мать и добавляет для убедительности, - Плевать мы хотели на закон.
Скоро, очень скоро плевок этот, увеличенный тысячекратно, вернётся и с головой накроет тех, кто плавал...
Здесь уместно вспомнить интервью, которое давал в 1922 году американской журналистке Луизе Брайт сам Троцкий (см. "Правду" от 30 авг. 1922 года). На вопрос корреспондентки по поводу высылки за рубеж блестящих представителей русской интеллигенции, он заявил следующее: "Те элементы, которые мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны..." Пройдёт семь лет и "политически ничтожным" изгоем окажется он сам.
С детства зазубренное - "революционная целесообразность", "нравственно всё то, что служит революции". Воистину страшные всходы были у этого теоретического посева.
В этом же 27 году, как помнит мать, троцкисты /преимущественно студенты МГУ/ вышли на октябрьскую демонстрацию со своими плакатами. "Цекисты" /так называли себя студенты "Свердловки" и РОНИОНА, среди которых, естественно, была Лайма/ вломились в "троцкистские колонны" и, как говорит моя мать, "началась подлинная драка". Но поскольку, по свидетельству матери же, "цекистов" было в несколько раз больше, скорее всего, имело место избиение, а не драка. Но это бы, куда ни шло. Вечером, как потом узнала мать, повсеместно начались аресты "активных сторонников Троцкого".
В тот вечер к ней домой нежданно-негаданно заявился её товарищ Тигран. Тиграна и его жену Шуру мать знала о 22 года по "Свердловке". И, несмотря на их "троцкистские завихрения", дружила с ними. Тигран сказал Лайме, что его Щура куда-то умоталась с ключом от квартиры, и попросил ночлега. Мать обрадовалась гостю, и лишь на другой день поняла, что Тигран хитрил - они с Шурой не ночевали дома, опасаяоь ареста.
- А если бы Тигран тебе признался? - опросил я мать, - пустила бы ты его ночевать?
- Ни за что! - честно ответила она, - Я бы выгнала его о порога.
Зная мать, готов засвидетельствовать: не из страха сделала бы она так - исключительно по убеждению.
Троцкистов стали арестовывать и высылать. Мать вспоминает, что она с мужем одобряли эти действия ОГПУ: "Одно дело внутрипартийная дискуссия, другое - антипартийная борьба. Это ведь элементарное нарушение Устава партии". "Так и исключали бы их из партии за устав, - кипячусь я, - Арестовывать-то зачем?" "Да они уже и так были к тому времени почти все исключены, - говорит мать. - Понимаешь, они постоянно лгали, двурушничали, многократно каялись и снова брались за своё. Это раздражало всех нас".
Злиться на двурушников вполне естественно. Но никто из твердокаменных, похоже, не хотел задуматься - почему честнейшие, подчас, люди становились "двурушниками", А ведь ответ вовсе не трудно было сыскать. Оставаясь в меньшинстве, человек в тех условиях не мог больше отстаивать свои взгляды, бороться за них. Ему следовало немедленно подчинить эти взгляды мнению большинства. Всякое инакомыслие «после голосования" подлежало наказанию. В условиях однопартийной системы запрет на организацию фракций и оппозиций, что был принят о подачи Ленина на Х съезде партии в 1921 г. /правда, принят как бы временно, но остался навсегда/ неизбежно порождал двурушничество. Ведь человек, не думающий как большинство, должен был срочно пересматривать свои взгляды, отрекаться от них. Иначе его ждало исключение "из рядов" и задвижка, а то и ссылка. /Позднее тюрьма и смерть/.
По стенограммам партийных съездов легко проследить, как зарождалось и старательно выращивалось двурушничество и лицемерие. Правоверные делегаты съездов, а их всегда оказывалось большинство /"агрессивно-послушное большинство" - обозначение, рожденное уже нашим временем/, ультимативно требуют от "ослушников" полного и немедленного отречения от своих взглядов, более того, неистового осуждения их. Каменев на ХУ съезде партии пытается еще апеллировать к разуму, к логике, к недавнему прошлому. "Требование, товарищи, отречения от взглядов никогда в нашей партии не выставлялось, - говорит он, имея ввиду ленинские времена… Если бы с нашей стороны было отречение от взглядов, которые мы защищали неделю или две недели тому назад, то это было бы лицемерным, вы бы нам не поверили". Но оказывается вовсе не важно верить - не верить. Главное, поставить противников на колени, унизить, сломить. Мало сказать: "мы заблуждались", "мы оказались не правы". Надо, как минимум, признать, что твоё заблуждение вело к реставрации капитализма, а то и похлеще. Уже тогда репетировались будущие "открытые процессы" - и обвинительные речи и покаянные заключительные слова обвиняемых. Вышинскому и его подручным было, у кого учиться. Вот, например, что требует от оппозиционеров А. С. Калыгина на ХУ1 съезде партии: "И нужно было, товарищи, не распространяясь сказать: мы вас тянули на неправильный капиталистический путь... Мы лишь формально стояли за строительство социализма, а фактически наша линия вела к реставрации капитализма" /О Калыгиной ещё речь впереди. Она работала вместе с моим отцом в Калинине и тоже была расстреляна/. А вот выступление Варейкиса на том же съезде: "Вы были не "хвостистской группой"... вы были и остаётесь кулацкой агентурой". /Не знаю в принадлежности к какой агентуре пришлось вскоре признаваться самому первому секретарю обкома Варейкису, но то, что пришлось, знаю точно/. Не могу ни привести ещё одну цитату - выступление Я. Рудзутака на ХУ1 партсъезде: "Они признают свои ошибки /оппозиция - Г.Ц./, но в то же время они не разоружаются, не опорачивают того идейного багажа, который служил основой их работы против ЦК", /От него тоже окоро потребуют "разоружиться" и опорочить себя. Но и это его не спасёт от пули./.
После того, как большевики проиграли эсерам выборы в Учредительное собрание и для того, чтобы удержать власть, им пришлось прибегать к аргументу штыков /явление матроса Железнякова/, идея многопартийности была перечеркнута навечно. Каменев, например, на том же ХУ1 съезде партии, где его унижали и ставили на колени, априори отрицает многопартийность: "Борьба в партии... за два года достигла такой степени обострения, которая ставит перед нами вопрос о выборе одного из двух путей. Один из этих путей - вторая партия. Этот путь в условиях пролетарской диктатуры - гибельный для революции... Остаётся, стало быть, второй путь. Этот путь - после жестокой, упорной, резкой борьбы за свои взгляды - целиком и полностью подчиниться партии". Но и это уже становится невозможным - борьба за свои взгляды хотя бы до решения большинства.
Н.К.Крупокая также попытается доказать необходимость высказывать разные точки зрения: "В прежние времена наша партия складывалась в борьбе с меньшевизмом и эсерством, в спорах с ними у членов партии складывалось убеждение, что именно большевистская линия - наиболее правильная линия. /То есть, она намекает, что в условиях многопартийной системы ошибиться труднее/. Теперь мы живём в других условиях. Нам нужно как-то иначе вырабатывать коллективное мнение партии... Большинство товарищей работает в очень разных условиях, и поэтому они видят действительность с несколько разных точек зрения. Надо как-то дать возможность этим точкам зрения выявиться… Это необходимо для правильного нащупывания партийной линии..." Сказано это на Х1У съезде партии в 1925 году. Но уже тогда партийной верхушке, вождям, вовсе не надо "нащупывать" и "вырабатывать" линию партии. Да ещё при помощи широкой партийной массы. Линию эту они вырабатывают сами, в узком кругу.
Таким образом, в условиях однопартийной системы, да ещё когда категорически запрещены всякие оппозиции и фракции, а монолитность партии считается главным её достоинством, двурушничество неизбежно. В наше время, когда мало-помалу стала пробуждаться политическая жизнь, проблема защиты инакомыслия, защиты меньшинства снова громко заявила себя. Но, увы, ненадолго. Словно и не было зловещих уроков прошлого - опять отмахиваемся от неё. Впрочем, время нынче движется стремительно и не исключено, когда будут напечатаны эти отроки, многопартийность станет реальностью. Она по сути дела уже и стала реальностью... (Я писал это в 1989 г. Сейчас время вносить коррективы: мы стремительно возвращаемся к однопартийности: партия чиновников, партия власти стала по сути правоприемницей КПСС…).
Как уже писал, отец с 1928 года стал работать в сельхозотделе ЦК ВКП (б). Мать помнит, что он без конца мотался по Сибири. Именно с Сибири Сталин начал свой поход против крестьян. В январе он провёл зубодробительные совещания партактива в Новосибирске, Барнауле, Омске, Рубцовске. На голову сибирских партийцев обрушилась брань вождя, что редко применяют 107 статью Уголовного кодекса /о спекуляции/ против крестьян, не сдающих хлеб. Логика здесь была чисто сталинская: хлеб не сдают – значит, намерены спекулировать /это своим-то хлебом!/.
Ещё и двух месяцев не прошло, как в докладе на ХУ съезде партии вождь утверждал нечто прямо противоположное; "Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ... Кулака надо взять мерами экономическими". Вождь любил говорить правильные слова.
Поездки отца по Сибири, думаю, были вызваны "новыми задачами" – с помощью судебных и прокурорских работников /"чрезвычайных мер"/ поправить дело с хлебозаготовками. Напуганный репрессиями крестьянин стал сдавать хлеб. Но уже на следующий год значительно сократились посевы.
Всё время думаю - почему это, да и все прочие бесконечные противоречия не бросались в глаза моим активно действующим родителям, не вносили в их души сметение? Считали беспринципность диалектикой? Лицемерие - гибкостью политики?
Мать не помнит, чтобы у неё с мужем были бы на сей счёт разговоры. Готов допустить, что отец не всегда и не во всём делился со своей женой. Но если он видел, /не мог ли не видеть/ столь явный отход "генеральной линии" к троцкизму, дружно осужденному ХУ съездом партии, грубое попрание коллективной партийной воли, то как примерял свою совесть с "новым курсом", который был обязан о энтузиазмом проводить в жизнь? Правда, Сталин тогда ещё хитрил, маскировался, оговаривая, что "чрезвычайные меры" нужны лишь на год.
Однако в высшем эшелоне партийного руководства далеко не все единодушно приняли этот сталинский перевертыш. На июльском Пленуме ЦК 1928 года Сталину пришлось даже отступить - согласиться с повышением закупочных цен на хлеб. Пленум осудил практику незаконных обысков в крестьянских дворах, высказался за немедленную ликвидацию "всех и всяких рецидивов продразвёрстки". Это было, пожалуй, последнее коллективное противостояние Сталину, последняя коллективная попытка удержать его руки от произвола. Отец не мог не знать о Пленуме, хотя и все материалы его были засекречены. Он ведь работал в ЦК. А вот Троцкий, находясь за границей, не знал - он вынужден был довольствоваться лишь решениями Пленума, опубликованными в газетах. Оттого и получился курьёз. Троцкий был уверен, что решения Пленума написаны, как обычно, сталинской державной рукой. Потому-то и обрушивая все громы-молнии на "капитулянтский отход от чрезвычайных мер", полагал, что ударяет прямо по Сталину. Но тем самым показал свою полную с ним солидарность. Ведь именно Сталин боролся на Пленуме против "капитулянтского отхода от чрезвычайных мер". Всё это произошло на глазах партийной верхушки - члены ЦК увидели, что состоялось братание Троцкого со Сталиным. Бухарин тотчас не преминул этим воспользоваться. Он в пух, и прах разнёс Троцкого, целя одновременно в Сталина. И опять все поняли. Впрочем, прошло несколько месяцев, и Сталин уже имел всю полноту власти. Возвращаясь вновь к "чрезвычайным мерам", уже не нуждался в поддержке большинства. На ноябрьском Пленуме ЦК вождь расправится о "правыми", после чего без оговорок станет реализовать в деревне троцкизм. Этот сюжет хорошо исследован Отто Лацисом /"Знамя" № 6, 1968 г./ Я же пытаюсь посмотреть на грубые маневры Сталина глазами моих родителей, для которых он, очевидно, в то время уже значил гораздо больше, чем Пленум ЦК и даже съезд партии. Зафиксируем это. Святой для всех партийцев принцип подчинения меньшинства большинству уже мало что значит. Взоры сосредоточены на личности вождя - он один знает истину, он один спасает. Как, когда произошёл этот сдвиг сознания? А может и "сдвигать" ничего не пришлось?
- Помню в конце 1929 года, - рассказывает мать, - Михаил прибежал о работы и сказал: "Собирайся скорее! Идём слушать Сталина". Сталин выступал на конференции аграрников - марксистов. Зал, коридор - всё было переполнено. Тут впервые мы услышали о сплошной коллективизации, о том, что нужно ликвидировать кулачество как класс. Зал рукоплескал.
- А ты? А отец?
- И мы тоже. Понимаешь, все устали от мучительных хлебозаготовок. Крестьянин ведь хлеб действительно зажимал, припрятывал. Денежки ему были не нужны. Товаров - то не хватало. Много ли на бумажки купишь? Да и закупочные цены на хлеб были низки - надо же было сэкономить деньги для индустриализации. Вот и, получался замкнутый круг: рабочего надо накормить, иначе он не сделает необходимый селу трактор, а кормить нечем - хлеба не хватает.
- Но ведь хлеб, как сейчас знаем, вывозили даже на экспорт?
- Валюта была нужна. Как без неё раздобудешь станки для трактора? Видишь, получается круг? Мы верили, что Сталин его разорвёт,
Думаю, рассуждения эти не столь уж наивны. Учёные, публицисты до сих пор перья ломают, пытаясь ответить на вопрос: был ли возможен ленинский, бухаринский или какой-то иной путь у нашей страны или сталинизм - закономерное продолжение Октября?
Проводя в жизнь "чрезвычайные мэры" против крестьян, загоняя их в колхозы, "уничтожая как класс кулака", а вернее, самого главного труженика деревни, мои родители, разъезжая по сёлам, видели плачущих осиротевших детей, их вспухшие от голода животы. "Сердце разрывалось", - вспоминает Лайма. Но они видели также голодных рабочих, с которыми "хитрые крестьяне" никак не хотели делиться хлебом во имя, так оказать, высоких идеалов социализма. И легко делали выбор в пользу рабочих. Партийцы в массе своей не знали село, относились к нему настороженно, а то и враждебно. Они чуть не с молоком матери впитали в себя: крестьянин - чуждый революции элемент, в лучшем случае - временный попутчик. Потом рассуждали примерно так: "Поприжмём село, разовьём индустрию и тогда дадим крестьянину всё необходимое для счастливой жизни. А пока он по серости своей, отсталости не осознаёт своего счастья".
4. КУЛЬТ ДВУЛИЧНОСТИ
Ситуация, в которой оказалась страна, и впрямь была не из лёгких. В тяжёлые моменты жизни людям свойственно искать и находить себе Спасителя. В данном случае и искать-то никого не требовалось - Спаситель давно уже объявился.,.
Здесь самое время рассказать об отношении к Сталину моих родителей. Мать, чем больше претерпевала от него, тем, кажется, больше боготворила. Об её горючих слезах в ссылке по кончине вождя народов я уже рассказывал. Лишь в старости мать смогла оценить Сталина по заслугам. Отец, думаю, относился к Сталину не столь слепо и фанатично. Хотя, будучи делегатом ХУ11 съезда партии, не был среди тех 298 делегатов, которые вычеркивали генсека при голосовании, /Я специально уточнял у матери/. Однако, именно с XVIII партсъезда отец привёз домой неприличный анекдот про Сталина. Мать запрятала анекдот в своей памяти столь глубоко, что смогла вспомнить лишь к концу жизни. Прошу прощения у читателей за скабрезное его содержание. Итак, Сталин будто бы заполняет анкету делегата съезда. Фамилия? Джугашвили. Имя? Иосиф. И т.д. Наконец вопрос: "Вы член партии?" Прочитав его, Сталин начинает возмущаться: "Кто, я - член партии? Это партия мой член!"
Про того, кто в твоих глазах является Богом, анекдотов не рассказывают. Да и содержание анекдота, думаю, вполне свидетельствует, что и сочинивший его /будто бы Радек/ и пересказывающие вполне трезво оценивали положение в партии.
Так что же - понимали и продолжали творить культ личности? "Культ двуличности" - как обозначит это явление Александр Солженицын.
Гуна Руберт, если помнит читатель, давняя подруга моей матери, разделившая её судьбу, в своих воспоминаниях привела такой эпизод: "Уже в 1930 году по указанию партаппарата на рабочих собраниях принимались резолюции, требующие награждения Сталина орденом Ленина, Я помню, высказала своё возмущение товарищу Михайлову /партийная кличка моего отца, ставшая фамилией - Г.Ц,/, который в то время работал в ЦК партии. Он ответил, что нам, старым членам партии, привыкшим к ленинской скромности, претит это возвеличивание Сталина. Но оно необходимо для народа. Ибо в трудный период индустриализации требуется авторитет, которому народ бы так же доверял, как и Ленину".
Горько сознавать, но вот она двойная мораль: для узкого круга старых партийцев - одна правда, для народа - другая. Подобное никогда не может кончиться добром. Кровавых подтверждений тому в истории множество. Но по-прежнему строго дозируем правду, по-прежнему опасаемся: "народ не дорос". «Мы то с вами понимаем, а люди могут не понять правильно". По-прежнему, словно и не было горьких уроков истории, спешим осудить того, кто посмел выступить с критикой лидера страны и автора перестройки. (Написаны эти строки давно, отчасти они устарели, но решил не выкидывать их). Показательно в этом смысле выступление на Съезде народных депутатов писателя Юрия Карякина, вроде бы давнего и испытанного демократа и вечного оппозиционера: "Раньше люди так привыкли блюдолизничать перед генсеком, что теперь считают обязательным хамить новому... Я просто вижу, чувствую эту тенденцию и очень, очень её боюсь. Хорошо бы, заметив её, покончить о ней о самого начала, Критерий прогреоссивнооти не в огульной критике Горбачёва, а в конструктивной помощи делу..."
Вроде бы всё тут бесспорно - хамить, как и блюдолизничать негоже. И негоже заниматься огульной критикой кого бы то ни было, не только генсека. Но, интересно, в чем узрел писатель хамство и огульную критику в адрес генсека? Право же не это нам сегодня грозит. Избавиться бы до конца от угодничества, от подхалимства! Снова творим себе кумира, успокаивая при этом овою «демократическую совесть" примерно такими словами: "В нынешнем раскладе сил наш лидер наиболее пригоден для своей роли... это лучший вариант... Его критика наруку реакционным силам..." И т.д. Никак не хочу оспорить достоинства нашего нынешнего лидера.(Ельцина) Но почему любая критика /не огульная, понятно, а по делу/ на руку врагам переотройки? Была уже, была подобная логика и известно, куда она завела. Горбачев, как показало время, был порядочным, честным человеком. Хотя и он совершил много серьезных ошибок. Ныешние руководители гораздо хуже. Но словословим им уже все больше и больше…
В воспоминаниях Гуны Руберт отец говорит "вам старым членам партии..." Если её не подвела память, говорить так отцу вряд ли следовало бы - он член партии о 1918 года и в 30-ом году ветераном никак считаться не мог. Но ветераны, учителя его, и даже те из них, кто не раз в узком кругу Политбюро или Пленума пытался противостоять Сталину и уж никак не обманывался на его счёт, тоже ведь славили Сталина на вое лады из каких-то своих "высших побуждений". Приведу лишь несколько выдержек из выступлений на XVII съезде партии.
Бухарин: "Под руководством славного фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших - товарища Сталина..."
Рыков: "Я, не кривя душой, хочу закончить свою речь утверждением, что только под руководством нашего и всего мирового пролетариата вождя товарища Сталина..." мы, естественно придём к победе,
Понимаю прекрасно, что все трое были привезены на съезд специально для покаяния и славословия вождю. Это для них было условие остаться в партии и сохранить хоть какую-то работу. Но ведь так на съезде выступали не только они. Киров, например, ходивший ещё тогда в любимцах вождя, но ничуть не заблуждавшийся на его счёт, вдохновенно с трибуны съезда называет Сталина "великим стратегом освобождения трудящихся нашей страны и всего мира". Буквально все, как один, состязаются в славословии. Не берусь их судить: страх был смертельный. Но, как показал опыт, это никого не спасло от смерти. Может, учтем хоть этот урок?
Заключительное слово Сталина в стенографическом отчёте сопровождалось такими ремарками: "Буря аплодисментов", "бурные овации всего зала", "весь съезд, стоя, долго и шумно приветствует великого вождя", "Громовые "ура", коллективные возгласы "Да здравствует Сталин!" А между тем среди всех этих кричащих "ура", и неистово бьющих в ладоши, каждый четвёртый тайно проголосовал против "великого Сталина".
Видимо тогда уже проявлять восторг по поводу вождя в меньшей степени, чем все, стало опасным. Итак, страх, необходимость строго следовать ритуалу? Впрочем, одним только этим всё не объяснишь.
У моей матери имелось на этот счёт своё объяснение: "Выступать публично против Сталина означало выступать против генеральной линии партии, дать повод для появления ещё одной оппозиции.'
Как прочно вросло в сознание: где генеральный, там и генеральная линия партии. Сталин менял позиции постоянно, меньше всего, заботясь о правильности "линии". Такие пустяки его вовсе не занимали. И "линия" всякий раз менялась ему в угоду. А все, идущие за вождём след в след, словно ослепли.
О том, как сознательно, из высших, так оказать, соображений, творили культ - тема особого разговора. Партаппарат в этом деле был, естественно, главным вдохновителем и организатором. Приведу только один курьёзный пример, рассказанный мне бывшим политзэком Адольфом Абеле, Он вспоминал, что "Известия", кажется в конце 36 года, перепечатала заметку из областной газеты примерно такого содержания: "В дни, когда в Москве проходило совещание колхозников, одна больная колхозница увидела товарища Сталина и излечилась", Женорга, старую партийку, женщины спросили; правду ли пишет газета? Та отмахнулась: чепуха! И добавила: "Раньше народ обманывали иконами. Сталин не икона". Об этих словах донесли парторгу Ильинскому. Тот созвал собрание и объявил: "Я консультировался в партийных органах. Мне разъяснили, что гений человечества своим сиянием так воздействует на людей, что может исцелять. "Поэтому предлагаю, - заключил парторг, - исключить имярек /женорга/ из партии за политическую незрелость" И единогласно исключили. Наблюдая массовые исцеления после телесеансов Кашперовокого, вполне готов допустить, что Сталин к тому времени действительно мог исцелять - созданная аппаратом аура над его головой, была поярче, чем у Кашперовокого.
Культовое сознание прививалось с самого детства. Вот пионерская "речевка" двадцатых годов: "Товарищу Сталину - вождю нашей партии, мы шлём, пионеры, пламенный привет, товарищу Троцкому - вождю Красной армии, мы шлём, пионеры, пламенный привет. Товарищу Зиновьеву - вождю Коминтерна, мы шлём, пионеры, пламенный привет"… «Упразднив» религию, большевики создали новую культовую веру, определив своих вождей в небожители.
Отто Лацис, размышляя об истоках культа, делает такое вот академическое замечание: "культ личности, похоже, обязательный атрибут раннего социализма. Это особенно верно для стран, где нет вековой культуры демократии,.. Многим простым людям он даже необходим для политической ориентировки". Если это действительно так, если в подобных странах культ фатален, значит, не следует приниматься в них за строительство социализма. Оставим это развитым странам, с давней демократической традицией. Сейчас-то ведь известно уже, что "культ" далеко уводит общество от вожделенной цели…
Мать проговорилась как-то, что после моих вопросов-допросов у неё всегда бессонница и болит сердце, Я хотел немедленно прекратить наши беседы. Но она настояла на продолжении - прошлое мучило её. Ей хотелось выговориться.
- Ну а процессы, мать, один за другим? Шахтинокое дело, промпарми, меньшевиков? Неужели не казалось странным, что кругом враги? Неужели ни разу не возникало сомнения?
- Когда в 1931, а может в 1932 году в Латвийском большевистском подполье были провалены вое явки, в Москве арестовали Крастыньша, предедателя латрвийского коминтерна. Мы о Гуной Руберт никак не верили, что он провокатор. Хорошо ведь знали его по подполью. Потому решили написать письмо Ярославскому. Он тогда возглавлял ЦКК, Через его жену, ректора "Свердловки", сумели передать письмо прямо в руки. Ответа, правда, не получили, но были уверены, что там раберутся. Крастыньш не признавал себя виновным. Любую чушь признавал, даже что он, мол, гомосексуалист. Но только не провокатор. А ведь остальные то все признавались. Мы и вообразить тогда не могли, как добываются эти признания.
"Там разберутся". Нынешним такое и в голову не придёт. Ну а как было им не верить, например. Ярославскому? Его легендарную биографию бесстрашного подпольщика знали все. Но очень мало кто знал, что Ярославский давно уже отал марионеткой в руках Сталина, вдохновенно помогая ему вершить произвол.
- Но отец ведь мой в это время работал в ЦК, а позднее и первым секретарём обкома. Неужели не подозревал, что творится в следственных кабинетах? Неужели не мог проверить?
- Органы были не подотчётны партии. Ягодой, Ежовым, Берией командовал лично Сталин. Помню, когда Михаил был первым секретарём Калининского обкома, пришла специальная директива - не вмешиваться в работу органов на местах.
Как потом узнали из воспоминаний Лариной-Бухариной, действия ОГПУ-НКВД, не могли проверить даже члены Политбюро. Органы давали "сведенья" в партийный комитет: такой-то имярек - враг народа. Не требуя каких бы то ни было доказательств, его тотчас же исключали из партии. Такой порядок ничуть не изменился и поныне: все так же органы госбезопасности подотчётны лишь узкому кругу лиц. (Напоминаю: писал это в 80-е годы, но, похоже, все возвращается на круги своя).
- Ну а голод 32-33 года? - продолжаю я пытать мать, - он ведь коснулся миллионов.
- Как не покажется тебе странным, но я узнала об этом голоде только в ссылке, в Уфе, Мне о нём рассказал хозяин квартиры дядя Яша.
Вот так раз! Но сделаем скидку матери: в 1933 году она рожала мою сестру. Стало быть, была сосредоточена на этом. Впрочем, если бы ей пришлось стоять в очередях ночами напролёт, чтобы купить хлеба, то наверно быстрее узнала бы правду. Однако жена секретаря МК имела "литерное снабженио". И была надёжно отгорожена от всех превратностей жизни литером "А" /продукты ответработникам/ и литером "Б" /продукты для семьи ответработника/.
Рассказывают, что Чурбанов, зять Брежнева, год, просидев в тюрьме, вдруг узнал, что в магазинах нот колбасы. "Видите, после Брежнева жить стали хуже", - якобы злорадно изрёк он.
Мать не знала, но отец то конечно знал. Умирающие от голода тянулись в Москву, На вокзалах их отлавливали милиционеры и отправляли обратно. Правда, не всех. Многие умирали прямо на вокзальных скамейках. Гибли тысячи, /потом выяснилось - миллионы/, но это была строгая партийная тайна. Ссылаясь на свидетельство своей матери, Слава Домбровокий рассказал мне характерный эпизод про своего отца Станислава Домбровокого. Старший Домбровокий работал председателем Калининского областного управления НКВД. Однажды к нему приехал родственник с Украины и стал рассказывать, какой там голод - "люди мрут як мухи". Домбровокий резко оборвал родственника: "Запомни хорошенько: никакого голода на Украине не было, и нет".
Жизнь свела моего отца с Домбровоким в Калинине. Вот как напишет потом в своей книге его сын Слава Домровский. «В нашем доме бывало, как обычно, довольно много гостей…Лучше всех я помню семейство Михайловых, глва коорого Михаил был секретарем Калиниского обкома партии. Жил он по соседству с нами с женой Лаймой Юльевной и дочкой Леночкой, которая была младше меня. В 1937 году родился маленький Георгий. Очеь тихая, и незаметная на фоне своего быстрого, живого и остроумного мужа, Лайма была человеком необычайной стойкости и мужества. Летом 1937 года Михайлова перевели в Воронеж, где вскоре арестовали. Лайму с грудным Георгием на руках допрашивал лично Ежов…». Скорее всего, тут какая-то путаница. От матери этого факта я не слышал. Зато слышал, что моего отца на допросах лично избивал Ежов. Ничтожный карлик (1м.50 см. роста) бил привязанного человека.
Домбровокий старший был другом моего отца. Его арестовали первыым. Потом арестовали жену – красавицу Груню. Потом, после войны отправили в лагерь его несовершеннолетних сыновей. К этой истории я еще вернусь...
Как теперь стало известно, урожай в 1932-33 годах /пик голода/ был чуть ниже среднего. Миллионы голодали, а государство, меж тем, все увеличивало экспорт пшеницы, продавая её, кстати говоря, за бесценок - в мире бушевал кризис, продовольствия был избыток. Так создавались накопления для "великого скачка" - индустриализации,
Умирающие от голода люди стали красть хлеб. Чаще даже не килограммами - колосками. Тогда-то Сталин и сочинил свой знаменитый Указ об усилении ответственности за хищение соцсоботвеннооти. Народ метко окрестил его "Указом о пяти колосках". Действительно, за кражу пяти колосков вполне могли дать десять лет лагерей. За чуть большую кражу полагался расстрел. Только за три месяца действия этого указа в стране было осуждено 54 тысячи человек, тысячу из них расстреляли /"Правда» от 16 сентября 1988 г./.
Привилегии уже начали помаленьку вползать в их жизнь: квартиру имели в спецдоме /в "доме на Набережной"/, отдыхали в спецсанатории, рожала мать в "опецпалате", Сталин всё глубже проводил черту, разделяющую народ и номенклатуру. Это был сатанинский замысел. /Позднее, после него действовали так уже безо всякого замысла - лишь бы хватануть побольше/. Отец мой, как вспоминают все оставшиеся в живых, из звавших его, был очень совестливым и демократичным человеком. Какую бы он должность не занимал, большинство называло его на "ты" и "Мишей", При реабилитации, когда подняли из архива опиоок конфискованных вещей, следователь прокуратуры не поверил своим глазам: "По документам получается, что у вашего мужа был только один костюм. Наверно ошибка?" "Нет, - сказала мать, - никакой ошибки. У него действительно был один костюм". "Но ведь он работал, первым секретарём обкома!"
Отец был скромным человеком, но принимал правила игры. Привилегии полагалось иметь как форму в армии. Вот и имели. И тот, кго вожделел этого, и тот, кого от подобного воротило. Камил Икрамов рассказывает в повести об отце, как Акмаль не хотел въезжать в роскошный особняк, который полагался ему по чину, "Земляков будет стыдно" - будто бы говорил он. И всё-таки въехал, не посмел ослушаться неглассного предписания.
Вожди, между тем, продолжали играть в скромность. Мать вспоминает, как однажды на собрание московского партактива прибыл Каганович. Был перерыв. Президиум в полном составе пил чай с тортом в закрытом буфете. /Как-то там оказалась и Лайма/. Каганович вошёл, строго оглядел стол, затем охватил блюдо с тортом и с криком "рабочие голодают, а они здесь обжираются!" - кинул его на пол. Блюдо, понятно, вдребезги, торт вомятну. У Лаймы в душе полный восторг. Лазарь Моисеевич был большим актёром, так что мать его игру приняла за чистую монету,
Сегодня с высоты времени мы мудро обозреваем прошлое, уличая отцов в грехах и ошибках. Сегодня, например, и ежу ясно, что не те были темпы, да и принципы коллективизации. Задаёмся уже вопросом: А может, и вообще-то не следовало ее проводить? Легко нам нынче быть умниками, легко судить других. Но как оглянусь на свои прожитые годы - вижу, что не однажды плутал в трех соснах. А не то, что родители, попавшие в дремучий лес. В зрелые уже годы в «Литературной газете», например, искренне прославлял РАПО (Районное агропромышленное объединене), требуя вместе со всеми "достроить крышу", иначе - создать Агропром. Достроили, создали, и только тогда прозрели: вышла очередная бюрократическая затея. Мне, когда славил РАПО и Агропром, стукнуло почти пятьдесят, отцу же, когда агитировал за колхозы, было тридцать. И он "университетов не кончал".
Нет, не в том виноваты наши родители, что избрали неверный путь, а в том, что выбирали его чаще всего без размышлений и колебаний, без нравственных сомнений. Как родили в революцию лозунг "Вперёд без страха и сомненья!", так и понеслисть с ним без оглядки сквозь годы, предполагая сделать остановку разве что в коммунизме. Сомнеиия, колебания в партийной ореде всегда считались смертными грехом. Раз сомневаешься, значит, хлюпик-интеллигент или взбесившийся мелкий буржуа. Лишь твердокаменные до поры до времени имели право на почёт и уважение.
Человек, не ведающий сомнений - фанатик. А факатик слеп. Говорят: "была слепая вера". Вера всегда слепа.
Мать вспоминает в своих "мемуарах", как ей пришлось, будучи секретарём парторганизации Мосэнерго, исключать из партии Стэна. Стзн, крупный политэконом, одно время был домашним учителем Сталина. Но потом вошёл в "школу Бухарина" и прогневил хозяина. Стэна отправили на "перековку" в Мосэнерго. Последней каплей послужила его статья, опубликованная в "Правде" - "Сомневаться во всём". Сомневаться в чём бы то ни было давно стало грехом.
Матери позвонил первый секретарь Замоскворецкого райкома Сойфер и цредложил срочно организовать исключение "за ошибочную и вредную статью". Мать статью читала, ничего криминального в ней не обнаружида, но если партия сказала ошибочная, стало быть, она такая и есть. Кстати, А. Рыбаков упоминает мерзкую фигуру Сойфера в книге «Дети Арбата».
Стэн запомнился матери человеком огромного роста, с царственной головой. Он напоминал ей льва, окруженного сворой собак. Стэн не хотел каяться и разил своих юных, малограмотных оппонентов сокрушающими аргументами. Но "оппоненты", не дрогнув, единолассно исключили его из партии. Надо ли говорить, что в 1937 году он канул в недрах ГУЛАГА?
Интересно, как бы поступила эта боевая молодёжь с Марксом, если бцы какой-либо партийный босс предложил исключить его из партии за избранный девиз "Сомневаться во всём"? (См. анкету, которую он заполнял для дочери).
Повторяю ещё раз: не ошибочность выбора можно поставить в вину нашим отцам, но его лёгкость. "Полузнайка опасное незнайки,- резюмирует в "Знамени" Отто Лацис - Активность уже разбужена, опыта и воспитания ещё нет. Идеи уже знает, относиться к ним критически не умеет". Это, пожалуй, многое объясняет.
С 1932 по 1935 год отец работал секретарём МК. Первым секретарём объединенного московского городского и областного комитетов партии был член политбюро Лазарь Каганович, первым секретарём Московского горкома - Никита Хрущев, Московского обкома - Михаил Михайлов, мой отец. Кстати оказать, именно в этот момент отец и стал Михайловым. Окрестил его так Сталин. Сталину дали на прсмотр список кандидатов нового состава членов бюро МК. Отец в списке значился как "товарищ Михаил". С самой молодости он по всем партийным документам проходил под такой кличкой. Фамилия сложная - Каценеленбоген - язык сломаешь. Будто бы Сталин, просмотрев описок, рассердился: что у вас тут литературный кружок? Товарищ Артём, товарищ Михаил…Сделаем Михаила Михайловым. Но вряд ли только трудность произношеия фамилии отца послужила поводом к сталинскому крещению - сплошь и рядом нерусские, в основном еврейские фамилии, переделывались в русские. У владельцев фамилий на то согласие не опрашивали. Так что нынешним черносотенцам придется обвинять в этом лишь любимого вождя.
Не знаю, как было на самом деле, но мне отчётливо представляются «раздумья вождя». Вот сидит он в своём кабинете, попопыхиавая трубкой, и читает-перечитывает список делегатов съезда, наливаясь злобой, пытается отгадать, кто посмел ЕГО вычеркнуть и кто, стало быть, враг народа. «Каждый мог предать, каждый». Рука ставит и ставит рядом с фамилиями зловещие птички, а может кресты. Только в некоторых саратниках он абсолютно уверен: Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов…Вот и фамилия моего отца – Михайлов М.Е. Палаческая рука остановилась рядом. Но еще не время, еще не время. Сталин умеет ждать… Уже в новые времена правозащитная организация «Мемориал» раздобудет «расстрельные списки», подписанные лично Сталиным. В общей сложности этой чести оказались достойны 10 тысяч человек. В том числе и мой отец, Михайлов. Он в списку рядом с Рудзутаком…
Отец привёз со съезда три "делегатских" книжки-малышки с речами Сталина, И матери в подарок редкие в ту пору духи "Красная Москва". Мать заберёт подарок мужа с собой в ссылку, и сын квартирной хозяйки Леонид, бывший уголовник, ставший оогрудником НКВД, очень полюбит их изысканный запах, а вернее, вкус. Увидев, как стремительно убывают дорогие для неё духи, мать прикрепит к флакону запаску; "Лёня! Как не стыдно!" Моя наивная мать пыталась пробудить в таком человеке стыд...
5. ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА
Сразу же в день смерти Кирова первого декабря был принят указ об ответственности за совершенное политическое преступление всех членов оемьи. Сталин даже и не подумает как-то маскировать эту странную скоропалительность - как бы к точно запланированной дате смерти указ был готов. В печать он не попадёт - об указе матери расскажет отец. Оба они примут его как должное. С расстрела царской семьи начался путь к этому страшному указу, освобождая людей от нравственной ответственности "во имя высокой цели".
Указ позволит Сталину уже на правовых, так сказать, основах приняться за осуществление своей сокровенной мечты: истребить воех противников до седьмого колена. Палач не зря испытывал страх перед потомками своих жертв. Кто выжил - стал свидетелем его преступлений...
Вскоре после расстрела Каменева расстреляли его первую и вторую жену. Младший сын Юрий не дожил до 17 лет - был расстрелян в 1938 году, старший сын Александр - в 1939. Внук Каменева был арестован в возрасте девятнадцати лет и приговорён к 25 годам лагерей.
У Зиновьева расстреляны жена и сын. У Мрачковокого - брат и племянник. У И.Н.Смирнова - дочь и жена. Вот и вернулся страшный бумеранг, брошенный в Екатеринбурге в 1918 году...
В Ленинграде сразу же после убийства Кирова стали арестовывать бывших дворян, их детей и родственников. Исключительно за происхождение. Кого-то в лагерь, кого-то в ссылку. Акция эта была широко известна. И, конечно же, мои родители о ней знали. И опять-таки приняла всё как должное.
Позднее оудьба сведёт в ссылке мать с бывшей столбовой дворянкой Еленой Николаевной Кулик, женой известного врача. Сам врач был отправлен в лагерь. Жена же его, с тремя дочерьм опухали от голодухи в соседней о нами комнате. Доведенная до отчаянья женщина стала помаленьку брать картошку из нашего сиротского запаса - мешок отоял в кухне. Мать попробовала мешок зашивать. Не помогло. Тогда мать опять решила воздействовать запиской. Написала на клочке бумажки: "Е.Н.! Как не стыдно!" и положили в мешок. Записка подействовала. Елена Николаевна всё-таки была дворянкой, не чета сотруднику НКВД Леониду...
6. ПЕРВАЯ ТРЕВОГА
Однако до ареста и ссыки ещё несколько счастливых лет. По вот, кажется, что-то встревожило мать. "Произошло странное событие,- отмечает она в овоих воспоминаниях, - в конце 1934 года арестоволи Володю Миронова". Этого человека мои родители хорошо знала. И жену его хорошо знали – Зину Прищепчик. Судьба, а вернее партия, вечно разбрасывала супругов в розные стороны. Потому их семейная жизнь осуществлялась преимущественно «в письменном виде». Свои письма друг другу любящие супруги непременно заканчивали словами. "О коммунистическим приветом, твой /твоя/". Ни в одной оппозиции они никогда не участвовали. То есть были типичными твердокаменными большевиками. И вдруг арест. "Единственное, что пришло в голову, - вспоминает мать, - Миронов - скрытый троцкист". "А к арестам троцкистов, - добавляет она, - мы уже привыкли".
Ах, как часто, похоже, выручали моих родителей недруги троцкисты! Когда мать оказалась в тюремной камере и у неё, наконец, появилось время подумать - что же происходит в партии и в стране - Лайма быстро отыскала ответ: виноваты троцкисты. Мать знала о показаниях Шора, помощника отца, арестованного почти за год до его ареста. Шор на следствии показал, что троцкистам была дана секретная директива от самого Льва Давидовича - разваливать партию изнутри, оговаривать честных партийцев. Не исключаю, что кое-кто из подследственных, дабы скорее увидели абсурдность обвинений, называли "соучастниками" самых что ни на есть твердокаменных. Что же касается "директивы" оговаривать - конечно же, это полная ерунда. Но с этим нелепым объяснением прожила мать все свои нелёгкие годы. Лично ей оно было во спасение. Одно дело претерпевать от заклятых врагов, другое дело -от своих. Какие думы думал в тюрьме отец, мне не узнать...
В январе 1935 года было принято решение о создании новой Калининской области из районов московской. Ленинградской и Смоленской областей. Сталин дробил регионы, увеличивая партийный аппарат - свою опору.
Отца решением Политбюро назначили председателем оргбюро вовой области - считайте, первым секретарём обкома. Выборы уже давно стали проотой формадьностью.
В семье всеми вопросами быта ведала моя непрактичная мать. Она отпровидаоь в Калинин смотреть, а вернее, выбирать будущую квартиру. Первому секретарю обкома полагалось жить в опециальвом особняке. Его соседями, согласно рангу, должны были быть председатель НКВД Домбровский и ощё кто-то из секретарей обкома. Отцу по чину предлагалось выбрать себе квартиру прежде других. Мать, выполняя эту миссию за отца, долго выбирала, сравнивала. Когда же семья въехала в новый дом, оказалось, что квартира без кухни. Единственная такая в доме. Видимо при капремонте и перепланировке было допущена ошибка. Пришлось устанавливать примус прямо в ванной.
- Отец, надо полагать, устроил тебе взбучку? - опросил я мать.
- Да что ты?! Он, по-моему, вообще этого не заметил.
Матъ вспоминает калининский период овоей жизни - 1935-1937 –как самый очастливьй. "Все ведь приходилось начинать с нуля". Мать имела в виду создание областных упровяенческих организаций. И в частности, облплана, где ее произвели в заместители председателя. Ей страшно нравилось раздобывать столы, стулья – обустраиваться. А между тем все ближе подступало время тотального террора. Да что там подступало - давно началось. Аресты происходили все чаще и чаще. Я пытаюсь узнать: было ли у моей матера чувство страха? "Нет, - говорит мать, - абсолютно не было. Нас ведь это, так казалось тогда, ну никак не могло коснуться". Как я уже говорил, оптимизм у матери в составе крови. Лаймина подруга Гуна Руберт по-другому воспринимала то время. Она напишет в овоих воопоминавнях, как ходила в ЦК к заведующему кудьтпропом и члену ЦК Кнорину по поводу ареста Дзениса - "кристального революционера". Кнорин /по латышски Кноринь/ был для Гуиы и моей матери кумиром. Они воопитывалис на его статьях, публикуемых в легальном марксистском журнале "Домас".
- Верите ли вы, что Дзенис враг? - вопрошала Кнорина Гуна.
- Нет, не верю, - оказал он, глядя ей прямо в глаза, - но сделать ничего не могу.
"Душевный разлад, - пишет Гуна, - довёл меня до состояния нервного заболевания". Моя мать никакого нервного срыва не пережила.
Так что по разному люди проживали то время. В последствии судьба распорядится так, что Гуиа и Кнорин окажутся в соседних камерах. И Гуна услышит, как её сосед кричит; " Перестаньте бить! Расстреляйте меня!" После долгих мучений его расстреляли…
Отец был, видимо, хорошим работником. Об этом свидетельствуют сейчас все оставшиеся в живых. Николай Ивушкив, например, бывший секретарь Ржевского горкома партии, Евгений Петров, бывший председатель колхоза "Молдино" и другие. Ивушкина и Петрова арестовали в 1937 г., но к счастью они остались живы. Их выпустили в момент "бериевокой либерализации" в 1939 г.
Ивушкнн историк. Он издал книжку о калининской области, в которой упомянул добрым словом и моего отца. Автор отмечает бойцовые качества М.Е.Михайлова, страстность, интерес ко всему новому, а также сердечность, обаяние, простоту в общении. Петров в газете "Калииинокая правда" подчёркивает заслуги отца в развитии льноводства. Он тепло вспоминает первую встречу с ним в пять утра, в разгар уборки. Встреча была прамо на току, среди людей. Разговор подучился душевный.
Область за короткое время станет главным поставщиком льна на экспорт, и отца за лён наградят орденом Ленина. Потом следователи будут выбивать у него признание, что организовал вредительство именно в льноводстве. Из Петрова же станут выбивать подпись под сочиненным для него заявлением; "Будучи затянутым в контрреволюционную оргаиизапию бывшим секретарём обкома Михайловым, я был вынужден проводить в коммуне "Молдино" вредительвую работу"…
Вторым секретарём обкома работала в ту пору Анна Степановна Калыгина, бывшая ткачиха. Судя по воспоминаниям матери, была она женщина малограмотная. Отношения её с отцом складывались не просто. Но отец ценил Анну Степановну за умение всегда находить обшли язык с рабочими. Она ходила к ткачихам на свадьбы, на крестины. Когда же должна была решать особо сложные "женские вопросы", шла советоваться в баню.
В 1937 году Калыгину постигла общая участь. Перед расстрелом, будто бы, она кричала своим палачам: "Да здравствует Сталин!" Что ж удивительного? Многие большевики так умирали, иначе вели себя представители других партий, давно распознавшие Сталина - эсеры, меньшевики. Абеле вспоминает в своих мемуарах, как сидел в общей камере с одним народовольцем. Это был древний старик, отсидевший в царских и советских тюрьмах почти полвека. Узнав, что его сокамерник перед революцией работал на юге, Абеле его спросил, звал ли он по тем временам Сталина. Старик протёр пенсне, долго молчал, словно вспоминая, а потом сказал презрительно; "А, этот Сосо, церковный служка"…
Как-то отец пришёл о работы под утро. Был он растерян и расстроен, как помнит мать. Он рассказал, как они о Домбровоким всю ночь сидели, не решаясь дать санкцию на арест Енова. Енов работал секретарём Великолужокого окружкома партии. Оба хорошо его знали, и никак не могли поверить, что Енов враг. Москва между тем настаивала - звонки следовали один за другим. Под утро требуемая санкция была подучена.
О том, что органы к тому времена абсолютно не подлежали партийному контролю, я уже писал. Так зачем же, опрашивается, была нужна эта санкция - как бы партийное благословение на арест? Нелепость? Да, нет - хитрый в том заключался расчёт! Круг сообщников злодеяний становился, таким образом, всё шире. И выскочить из этого круга уже никто не мог - люди повязывались кровью.
Не могу допустить, чтобы такой порядок казался отцу естественным: он, первый руководитель области, не имея права ознакомиться о делом своего подопечного, вынужден давать санкцию на арест.
Мать говорит: "Мы свято верили в органы. Верили, что они не могут ошибаться". А что ещё оставалось?
Откуда пошла эта вера в святых рыцарей революции? От Феликса Дзержинского? От его категорического императива: "Чекист должен быть чище и честнее любого - он должен быть как кристалл прозрачным". Что значит "честнее любого"? Да разве возможны люди "прозрачные, как кристалл"? Феликс Дзержинский человек-легенда. Но сегодня рухнуло уже немало легенд. В многократно показанном телезрителям боевике "Операция "Трест" документальная основа. Чтобы заманить Савинкова в Россию ЧК, по сути, идёт на провокацию: подосланный чекист - уверяет знаменитого эсера, что в России, якобы, существует могучая антисоветская организация, требуется только вождь. Безобидные шутки детства; кошелек, привязанный за веревочку, уползает прямо из рук... Первые концлагеря были созданы по указанию Ленина и Дзержинского
Конечно перерождение органов ЧК – ОГПУ - НКВД, шло постепенно. Вячеслав Домбровский, друг отца, был чекистом старого поколения. Он окончил Дерптский университет, музыкальное и военное училище, увлекался радиотехникой. Позднее в органы придут люди с начальным образованием, с уголовным прошлым.
До Калинина Домбровский работал замом председателя НКВД Ленинграда, то естъ Медведя. Неожиданно, незадолго до убийства Кирова Домбровского перевели в Тверь. Не исключаю, что по расчётам организаторов покушения такой человек мог помешать осуществлению задуманного. К Медведю, же, как теперь знаем, с особой целью и с особыми полномочиями направили в замы Запорожца.
Домбровского арестовали летом 1937 года. Вызвали для этого в Москву. Он, очевидно, предчувствовал арест. Сказал, прощаясь с женой, что будет звонить каждый день. А если вдруг не позвонит, значит арестовали. Три дня он звонил, а на четвертый звонка уже не было…
Секретная телеграмма Сталина и Жданова, требующая от следователей пытать врагов народа («допрос №3»), поступила в органы чуть позднее. Так что можно предположить, что в ведомстве Домбровского в его бытность ещё не пытали. Но "конвейер", когда подследственных мучили бессонницей, допрашивая ночи напролёт, уже крутился на полную мощность. Существовали и прочие, весьма не безобидные штучки. Ясно, что Доыбровскнй знал обо всем этом не понаслышке. Да и отец мой знал. Не мог не знать.
7. «ОРГАНЫ НЕ МОГУТ ОШИБАТЬСЯ»
Когда Домбровского арестовали, мои родители были уже в Воронеже. Мать, как вспоминает, мучительно раздумывала - за что? Никогда ни в каких оппозициях не был, с оппозиционерами даже и знакомства не водил, сболтнуть лишнего не мог. "Поляк" - нашла она объяснение, наконец, - очевидно связь с Польшей". Типичная логика того, да и только ли того времени.
- Не помню, чтобы мы говорили об этом.
Видимо в их кругу все болыше информации становилось секретной. И хотя оба бесконечно доверяли друг другу, и хотя обоих "политика" интересовала больше всего на свете, молчали, переживая каждый в одиночку.
"Секретность" - стала неотъемлемой чертой их поколения. Как-то уже в наши дни я позвонил своему дяде, брату отца, и попросил напомнить дверной код его подъезда. "По телефону такую информацию не выдают" - строго ответил дядя. Черта эта неистребима.
Все это надо иметь в виду, когда на основании воспоминаний матери делаю скоропалительный вывод: она с отцом не сомневались ни в чём. Мать действительно не сомневалась. Про отца же этого с полной уверенностью оказать не могу.
Когда жена Домбровского Груня поняла по отсутсвию телефонных звонков из Москвы, что ее мужа арестовали, она позвонила своей подруге Лайме в Воронеж и сказала, что едет к ней с маленькими сыновьями. Отец, как вспоминает мать, запретил ей встречаться с женой арестованного. К счастью для Лаймы, Груня, жена чекиста, сделала обманный ход. Поехала совсем в другое место. Это избавило Лайму от мучительного выбора: подчиниться мужу или своей совести. Но Груню не спасло от ареста. Она провела в лагерях 17 лет. И оба ее сына – Слава и Рома - лишь подросли, сразу же отправились в лагерь и в ссылку.
Итак, беспредельная вера в органы. Откуда бы ей быть?
Как сейчас стало известно /см. книгу "История органов госбезопасности"/ уже в 1930 году Станислав Адамович Мессинг, заместитедь Меньжинского подаёт в Политбюро служебную записку-протест против "липования" дел и просит тщательно проверить работу органов. В противном случае дать ему отставку, И что бы вы думали? Дали отставку, и какой-то клерк так бесхитростно и написал: "в связи с отказом участвовать в липовании дел". Начальство, видимо, проморгало, и разоблачающая "резолюция" сохранилась потомкам - была приобщена к "делу Меосинга". В 1937 году его, естественно, расстреляли.
Допустим, история с Мессингом была сверхсекретной. Но дело то Ягоды вершилось публично! Оставим в стороне мотивы, по когорым Сталин менял своих оберпалачей. Хочу подчеркнуть другое: уже в 1936 году все узнала, что во главе органов длительное время находился отнюдь не "рыцарь революции". Ни отец, ни мать ничуть не усомнились, что Ягода преступник. Как же могло это не затронуть их веру в непогрешимость органов?
Кстати сказать, за 1937-1939 годы жертвами собственной мясорубки стало как минимум 20 тысяч чекистов. /Интересно, что опыт истории никого научить не может. В эпоху Ивана Грозного, как пишет Кдючевской, наиболее свирепые репрессии были обрушены на голову преданнейших псов царя - опричников. Правда, масштабы тогда были иные: казнили всего 4 тысячи человек.
Вера в органы? А не была ли она просто продуктом страха? Страха, вытесненного в подкорку, о котором стыдно признаться даже себе самому? Нечто сродни мистическому заклинанию: "Они самые честные, самые частые, самые неподкупные. Они ошибаться не могут. Чур, меня.
Как мне кажется, есть и ещё одно психологическое объяснение "веры в органы", да и веры в Сталина тоже. По крайней мере, в качестве гипотезы его вполне можно принять. Английские психологи как-то провела такой эксперимент. Две роты солдат /первую и вторую/, служившие в какой-то азиатской стране, стали потчевать экзотическим, неприятным на вкус европейцев кушаньем. В первой роте действовали уговорами, увещеваниями, во второй - суровыми наказаниями тех, кто отказывался есть. Наконец в одной из рот солдаты стали охотно, с удовольствием поедать необычайное явство. Как вы думаете, в какой? Во второй роте. Там, где полюбить его заставляли палкой. Как объясняют психологи, сработал защитный механизм. Человеку трудно, подчас, невозможно признаться, что он ест, боясь наказания. Да ещё гордому британскому солдату. Нет, он ест не потому что боится, а потому что ему действительно нравится эта еда. МногозначительныЙ, не правда ли, результат?
А время, меж тем, стремительно неслось. Одного за другим арестовывали соратников отца. И по Москве, и по Средней Азии, и уже по Калинину.
Однажды Лайму - а была она в облплане секретарём парторганизация -пригласили в обком партии и дали ошеломившее её задание; орочно исключить из партии Иванова, председатедя облисполкома. Намекнули при этом, что на него есть материалы в органах.
Задание, как выразилась мать, было трудным. Иванов пользоювалоя большим авторитетом в аппарате облисполкома - люди его любали.
-Ты хоть поинтересовалась, в чём провинился Иванов?- пытал я мать..
-Это не принято было делать. Я же сказала тебе, что мне намекнула - "материалы в органах".
-Ну хотя би посоветоваться с мужем могла?
-Да я а так поняла, что указание исходит от него. Кто же ещё может санкционировать исключение из партии предоблисполкома?
-Но факты, фекгы! За что исключать?
-Ясное дело не за то, что известно органам. Эти данные ведь секретные. Стадо быть надо искать причину.
Так что же, не ведали что творили? Были и такие, которые ведали. Однако ослушаться, не смел никто, Адольф Абеле /я уже упоминал его не однажды/ пишет в своих "мемуарах": "Некто Месяцева не отреклась от своего мужа, а наоборот - выступала в его защиту: "Я твердо знаю, что никаких преступлений он не совершал. А вы судите, как позволяет вам партийная совесть". Вот и судили по совести. "Мы все восторженно, не опуская глаз, смотрели на эту женщину, - пишет Абеле и заключает, - Эту героическую женщину, конечно же, исключили, но в душе у всех вас надолго сохранилось теплое, хорошее чувство к этой замечательной женщине". Ну а этой героичеокой и замечательной женщине, что о того? Предали ведь её товарищи по партии, самым подлым образом продали. Восхищались, а голосовали, как предписано. Удивительно, что Абеле и на закате жизни не увидел в этом ни своей вины, ни вины товарищей. "Вспоминая теперь те ужасные дни, я не могу не порадоваться, - пишет он, - что в этих постыдных тогда мероприятиях в нашем наркомате ни один из старых земельных работников участия не принимал. Все мы угрюмо молчала, когда Ильинский, наш секретарь парторганизацин, ломался на оцене клуба".
Не слишком ли отрого сужу, глядя иэ нашего безопасного времени? Всё-таки "угрюмо молчали". И хотя голосовали "как надо", не набрасывались же всей сворой на безвинного человека.
Дома вечером мои родители недолго, как помнит мать, обсуждали "дело Иванова". Отец предположил, что "Иванов - человек Рыкова. Это как бы все объясняло. Рыков к тому времени был уже арестован, В виновности его и других «подедьников» никто, похоже, не оомневался. Тогда уже крепко вошло в сознание: арестован - значит виновен. Это и до сих пор сидит в головах.
Вою ночь напролёт Иванов ходил из угла в угол. /Его квартира была как раз над квартирой моих родителей/. Отец и мать не спали, слушали шаги. Под утро наступала тишина - в предрассветный час Иванова арестовали.
После Иванова предоблисполкома стал Гусыхин - из потомственных рабочих. Позднее на следствии он признается, что мечтал быть генерал-губернатором. Впрочем, как сейчас известно, малограмотные следователи липовали и не такие дела. Иван Макарьев, журналист и товарищ отца, показал на следствии, что был шпионом печенегов, а сообщниками назвал Шекспира, Шиллера и почему-то Рабиндраната Тагора. Так и пошло. Может, Макарьев рассчитывал, что эти нелепые показания привлекут чье-то внимание «на верху». И там разберутся. Не привлекли, и никто разбираться не стал.
В это же примерно время был арестован ещё один товарищ отца и тоже Иванов, но Владимир Иванович, бывший секретарь ЦК Узбекистана. А вместе о ним и другие соратники отца по Средней Азия - Исаак Зеленский, Камил Икрамов, Файзула Ходжаев.
До "открытого процесса" над ними отец не дожил, и их чудовищные признания знать не мог. Но он звал уже, что из камер и кабинетов чикистов никто не возвращается "невиновным".
Верил ли отец в виновность своих сотоварищей? Думаю, нет. Иначе, зачем бы хранил, например, письма Зеленского, а также фотографии, где снят не однажды со всеми арестованными? Лишь за полчаса до собственного ареста, уже зная о нём, позвонил домой жене и велел срочно ожечь письма Зеленского. Она не успела этого сделать. Кстати, при обыске все крамольные фотографии почемуто уцелели.
Из нашего времени то прошлое видится кромешной тьмой - оцепеневшие от страха люди, прислушивающиеся к полуночным шагом. Вот шаги остановились у двери - сейчас раздастся роковой звонок. Так многие и действительно жили. Но жизнь несмотря ни на что продолжалаоь. "Гуляли, целовались, жили-была. А между тем, гнусавя и рыча, шли в ночь закрытые автомобили, И дворников будила по ночам". Это Коржавин.
Да, шли в ночь закрытые автомобили - чёрные "маруси", "воронки", просто "продуктовые". Но люди, тем не менее, - гуляли, целовались, жили-была. Так уж устроен человек, И в этом его счастье. 22 июня 1941 года тоже ведь большинство безмятежно проводило выходной, отправлялись в парк, за город. А война давно уже дышала в затылок. И сейчас живём беззаботно и суетно, разве что в компаниях поболтаем для красного словца о возможно грядущих катаклизмах. Авооь пронесёт.
Отец с матерью вместе с сослуживцами выезжали в воскресный Дом отдыха. Кормили там прекрасно, но почему-то не подавали хрена. Отец с друзьями немедленно засаживается за выпуск сатирической стенгазеты. Мать даже вспомнила её название - "Не хрена", А ночью в поезде по дороге домой арестовывают друга семьи Ивана Макарьева. Делается это тихо, деликатно - вагон то правительственный. Лайма даже не просыпается. А утром находит у себя в ногах тайно оставленную записку - Макарьев просит прощения за беспокойство.
Адольф Абеле вспоминает, как "на ликвидацию последствий вредительства в сельском хозяйстве" выделялась крупные суммы. Областное начальство, сменившееся уже по второму-третьему разу, соревновалось друг с другом, стараясь доказать в наркомате, что именно у них в области было больше воего врагов, и последствия вредительства самые тяжёлые. Так удавалось выбить наибольшую дотацию. Совсем как в нынешние времена, когда разразится, окажем, засуха,
Летом 1937 года отец получил новое назначение. Решением Политбюро его переводили в Воронеж первым же секретарём обкоме. Отец ехал на место только что арестованного Птухи, большевика с подпольным стажем. Предшественник Птухи Варейкис тоже был уже арестован, Не думаю, чтобы отец пребывал тогда в безмятежном состоянии духа. Пули то свистели рядом. Мать другое дело. Она была беременна мной. Наверняка отец, как мог, ограждал её от тревожной информации.
К тому времени уже сложилось - если человека переводили на место, где "орудовали враги", он должен был проявлять особую бдительность и рьяность в "выкорчевывании корней". Опять сошлюсь на свидетельство Абеле, работавшего в то время в наркомате земледелия. Абеле помнит, как на пост наркома пришёл Роберт Эйхе, бывший до того секретарём Вооточно-сибирокого крайкома. Только что перед этим арестовали наркома М.А. Чернова. Был арестован также его первый зам. А.И. Муралов, член ВКП/б/ с 1905 года. Та же участь постигла пришедшего на его место Н.И.Демченко, бывшего первого секретаря Хабаровского крайкома. Потом взяли Паскутского, героя гражданской войны, затем А.Г. Гайстера, доктора наук, бывшего зампредгосплана. Арестовала также всех начальников главков и их замов. "Мы ждали Эйхе как бога, - пишет Абеле, думали, что он, кандидат в члены Политбюро, внесёт успокоение в наши души. И вот он появился и произнёс первую речь перед аппаратом: "В наркомате обосновались враги, которые вместе со своим бывшим наркомом только вредили. Я пришёл в наркомат, чтобы очистить его от шпионов. Я вас созвал, чтобы предупредить: если обнаружу малейшее невыполнение моих приказов, то я вам сделаю втирание". Слово "втирание" нарком повторил несколько раз".
Старания по разоблачению "шпионов" не зачлись новому наркому - Эйхе вскоре арестовала. В следственной камере ему сломали позвоночник, и потом при каждом новом допросе надламывали его. Из тюрьмы, как известно, Эйхе писал письма Сталину, напоминал ему, что ни в одной оппозиции не состоял.
К честн моего отца могу оказать, что, придя на место, где до него тоже "орудовали враги", он ничуть не изменился, не стал устраивать охоту на "шпионов". Работал, как всегда. Это подчёркивали в разговоре со мной все бывшие его товарищи по работе, которым повезло остаться в живых.
Сегодня мы знаем, что перевод на новое место работы обычно предшествовал аресту. Иезуитский сталинский приём: на новом месте всегда могли предположить, что позади у арестованного остались враждебные дела и связи. На старом же месте тоже было легче найти объяснение: переехал и там что-то натворил. Человека как бы лишали корней. "Трудно было бы избежать резонанса и глухого протеста партийных организаций, рабочих, колхозников, - пишет в своих воспоминавах Гуна Руберт, - если бы, скажем, арестовали Михайлова в Калинине. Он был работник большого личного обаяния. Его лично знала широкая масса".
Думаю, Гуна преувеличивает возможность какого бы то ни было резонанса, "глухого протеста". Вряд ли в это время кто-то был на него способен. Да и потом Сталину уже удалось разъединить "вождей" и "массу". Какие бы парторганизации вздумали роптать? Те, в которых врагами народа было объявлено чуть ли не половина членов? А каких бы колхозников возмутил арест "любимого первого секретаря?" Родственников "кулаков", высланных ни за что, ни про что? Или родных тех, кто умер от голода в коллективизацию? Не исключено, что многие воспринимали арест руководителей, как справедливое возмездие. Маркс анилизируя термидор во время Великой Французской реводюцаи, пишет о гибели её вождей. Вождей тащат на эшафот при полном равнодушии, а то и рукоплескании народа. Что ж обижаться? Они вполне заслужили свою участь. И всё-таки Сталин боялся своих жертв. Потому эти игры с переводами на другую работу. Потому именно иочные аресты. Потому машины, замаскированные под хдебовозки... В Воронеже, где, кстати, я имел счастье появиться на свет, мои родители так и не успели распоковать чемоданы. Жили они на даче, ожидая, когда закончится ремонт квартиры. Отец, как помнила мать, все чаще приезжал о работы в подавленном состоянии. Раз рассказал ей, что на авиационном заводе группа следователей выбивает показания на Туполева. Он так и сказал - "выбивает".
За две недели до ареста отца принял Сталин. Отец вернулся из Москвы окрыленный: все вопросы удалось блестяще решить. Сталин, в частности, подписал ходатайство о выделении миллиона рублей на расчистку реки Воронеж. Разговор был тёплый, дружеский. А участь отца, меж тем, была уже решена: сталинское "добро" на арест получено. Это тоже, как сейчас знаем, было любимым приёмом вождя: наградить, поддержать, повысить перяд арестом. Человек от этого укрепляется в своей вере: "всё вокруг делается разумно и справедливо". И хотя что ни ночь - аресты, тобя-то, честного партийца, не берут, напротив того… Стало быть берут не напрасно. Как только пришёл к этой мысли, самое время брать.
А ведь зря, выходит, боялся Иосиф Виссарионович. Приговоренные послушно ждали своего часа. Никто не взбунтовался. Никто руки не посмел поднять на злодея. Никто ве попытался даже бежать, чтобы затеряться среди российских просторов. Не чувствуя за собой никакой вины, послушно шли на заклание.
То, что отец хотел застрелиться перед арестом, вполне доказывает, что у него не оставалось никаких иллюзий. Знал уже хорошо, что «оттуда не возвращаются».
Писатель Э. Лимонов в своей книжке о родителях задается вопросом: «Почему во всей нации не нашелся никто, кто пожертвовал бы собой для отечества: выпустил ему в грудь (то есть, Сталину – Г.Ц.) восемь пуль из маузера?…». Всю нацию, конечно, винить не след – не так-то просто было подойти к вождю с маузером. Целые улицы освобождались от прохожих на пути его следования. Но почти все дйствующие лица, упоминаемые в этом повествовании, и маузеры имели, и подойти могли. Но это нам сейчас легко винить их в нерешительнсти. Это нам сейчас ясно, что тиран заслужил смерти. Да и от этой ясности, до действия, какой трудный рубеж. На Гитлера покушались неоднократно, на Сталина – ни разу…
В канун октябрьских праздников отцу в Воронеж позвонил Маленков и потребовал, чтобы он срочно явился в ЦК. С Маленковым они вместе работали в Москве, дружили семьями. Отец был чином повыше и выдвигал Маленкова. Теперь же его протеже занимал более высокий пост – заведовал кадрами в ЦК. Немедленно ехать отцу было не с руки – предстояли октябрьские торжества. Он сказал, что приедет после праздников. Маленков грубо настаивал. Видимо, тон разговора отец посчитал недопустимым, поэтому выругался и бросил трубку. Сейчас остается только гадать о причине срочного вызова. Скорее всего, отца в Москве должны были арестовать. Прием отработанный: вызов в Моску и арест в вагоне, на вокзале, в кабинете. Как впоследствии покажет «Ленинградское дело», партийных руководителей города арестовывал лично Маленков в своем кабинете. Но моя мать, вопреки логике, считала, что Маленков, скорее всего, хотел предупредить отца об аресте. Все-таки ведь они дружили когда-то. Предположение достаточно наивное, но, как показали дальнейшие события, в судьбе матери Маленков, видимо, принял какое-то участие. Очень уж ей везло. По ее рангу - жены первого секретаря обкома - Лайме полагалась тюрьма и лагерь. В тюрьме ей пришлось посидеть, а вот лагерь заменили ссылкой. Сегодня нам достаточно изветны палаческие дела Маленкова. Но и палачь иногда может проявить человеческие чувства…
8. «СОВЕСТЬ МОЯ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ ЧИСТА».
После праздника отцу ехать в Москву уже не пришлось – 10 ноября в Воронеж прибыл секретарь ЦК А.А. Андреев. Было уже известн, что приезд этого человека означал арест первых руководителей.
Вечером отец позвонил домой и сказал, чтобы Лайма, как уже писал, уничтожила письма Зеленского. Сказал прямым текстом, не таясь. Лайма поняла, что будет обыск. Зеленнского ведь уже арестовали. Затем отец неожиданно заявился домой. Объяснил, что его срочно вызывают в НКВД. Разговаривали с ним крайне грубо, так что иллюзий у него не оставалось. Однако ему разрешили заехать «на минутку» - попращаться. Откуда такая чуткость? Скорее всего, отцу давали возможность застрелиться. Сделай он это, ему не пришлось бы пережить восемь месяцев страшных пыток. Мать не дала ему застрелиться: «Ты с ума сошел! Я завтра же еду к Стлину и все ему расскажу». Она искренне верила в такую возможность.
То ли неисправимая оптмистка мать передала мужу свою уверенность, то ли он сам еще на что-то надеялся, а, скорее всего, не хотел стреляться на глазах у своей жены. Кроме того, застрелиться означало полностью признать свою вину. Самоубийство Томского именно так комментировали в печати. Словом, отец отложил пистолет. На прощанье он сказал Лайме фразу, которую в подобной ситуации говорили многие (буквально слово в слово!): «Что бы ни случилось, знай, совесть моя перед партией чиста». Лайма ни разу в этом не усомнилась. Разве что на самом закате жизни, когда пыталась судить себя, вера эта дала маленькую трещину.
За подобными прощальными фразами стояло вполне определенное: «Я честно служил партии, не впадал в уклоны, не был в оппозиции, всегда боролся за генеральную линию партии». Может быть позднее, в предсмертных своих раздумьях, отец судил и себя тоже, признавая свою вину. Не ту, разумеется, признания в которой требовали от него следователи-садисты. А высшую, нравственную вину – невольную сопричастность к творимому злодейству.
Мне никогда не узнать о чем думал отец восемь страшных следственных месяцев. В тюрьме застала его телеграма Сталина и Жданова о необходимости ускоренного следствия, разрешающая пытки. То есть он угодил в самый рзгар следственного садизма. Гоню от себя эти мысли…
Дело отца уже после его реабилитации долго хранилось за семью печатями. Чиновники госбезопасности будто бы делали это исключительно из гуманизма – чтобы не травмировать нас, родственников. Журналист Грант Гукасов пересказал в «Московских новостях» свой разговор в кабинетах Бакинского КГБ, куда он приехал, желая увидеть «дело» своего отца. «Дела» ему в руки не дали, разъяснив при этом: «Все вам знать нельзя для вашей же пользы. Видите, как волнуетесь». А вот еще один резон хранить тайну: «Представьте себе, сказал Гукасову другой чиновник, что каждый незаконно репрессированный получит возможность прочесть «свое» уголовное дело. Там фамилии следователей, свидетелей, судей. Это же резня всесоюзная начнется!».
В постсоветские времена с этим стало полегче: похлопочи и читай. Мрачный парадокс: о последних днях моего отца я узнал, развернув очередной номер газеты, в которой рботал. Молодой писатель Н. Попков ркассказывал в «ЛГ» о следователе по особо важным делам Прокуратуры СССР, неком Г В очерке приводилось три героических эпизода из жизни этого следователя. Один из них – подготовка реабилтации моего отца в 1954 г. А поскольку, по выражению следователя – энтузиаста, дело Михайлова М.Е. представляло сплошной некрополь – одного за другим расстреливали его следователей и свидетелей по делу – то потрудиться пришлось изрядно.
Следователь – герой очерка – конечно же, выполнял указание сверху. Время переменилось, и мать написала Маленкову письмо. Позвонили из его приемной - сказали: «Ждите, все будет хорошо!». Впрочем, следователю, похоже, казалось, что он дейсвовал исключительно по своей инициативе, по велению совести. Так он и подавал мне всю историю. Я же пришел к нему за советом – как мне увидеть «дело» отца. «Ни в коем случае не требуйте его как сын, Не получите – дал он тайный совет. Напишите, что у вас интерес чисто журналистский».
Тут же я услышал от него рассуждения о сведении счетов, о кровной мести. Генерал, известный своей книгой «Год с винтовкой и плугом», а вернее – положительному ленинскому отзыву на нее, был осужден в 1937 году к 15 годам лагерей. Но выжил, дождался реабилитации, возвращения звания и орденов. И вот однажды жизнь свела его в больничной палате 4-го Управления Минздрава, «кремлевка», с бывшим председателем Военного Трибунала, осудившего его. Оба они были теперь персональными пенсионерами. Будто бы генерал поговорил со своим судьей, не выбирая парламентских выражений. И будто бы у того даже случился инфаркт. Тодоровскому и невдомек было, что осудивший его человек, страшно рисковал – вместо расстрела дал срок», - с укоризной в голосе говорил следователь, вроде бы приложивший руку к реабилитации моего отца. Но, право же, Тодоровскому, должно быть, трудно было испытывать признательность к человеку, знавшему все подробности его липового дела, но гуманно отправившего его на пятнадцать лет в лагеря. Видимо, мой собеседник, следователь, тоже гордился своим прошлым (может кому-то зменил расстрел тюрьмой), и поэтому он испытывал обиду за своего безвинно пострадавшего коллегу…
Как узнал я от следователя Г., аресту отца предшествовал донос. Процедура хотя и формальная (судьба отца была решена, естественно, до доноса) но обязательная. Был донос выбит в камере, так что доносом его, по сути, не назовешь – это скорее «ложные показания». Несчастный свидетель, сознавшийся в том, что он агент сами разведок, показал: «Михайлов вместе с 267 партийными работниками «готовил феодальную (!) революцию в СССР». Почему феодальную, а не рабовладельчекую?
Однако далеко не все доносы добывались избиениями – добровольных доносчиков было пруд пруди: чуть ни каждый третий житель страны. Спрос, так сказать, рождал предложение. Принцип мудрых правителей «доносчику первый кнуит» давно был сдан в архив. Доносчиков награждали орденами, стремительно продвигали по службе. Сегодня, читая биографии различных деятелей, всегда обращаю внимание на карьеру 37 года. Пошла она резко вверх – начинаю подозревать человека. А ведь может зря? Руководящие места быстро овобождались в ту пору. И командиры рот, например, становились командующими армиями. Какие огромные жертвы понес из-за этого наш народ в войне! Кстати, доносчиков часто также не миновала тюрьма и пуля. Близость к мясорубке опасноа, того и гляди затянет под нож. Нынешним доносчикам хорошо бы это усвоить…
Доносы в нашей стране приняли такой массовый характер (дети доносили на родителей, любимые на любимых, друзья друг на друга), что впору разбирать этот феномен социальным психологам. Что мы за народ такой?
Не прошло и несколько лет после революции, как доносы стали почитаться в партии особой добродетелью. Приведу лишь несколько цитат из стенограммы Х1У съезда парти (1925 г.)
Когда делегат съезда Николаева с трибуны попыталась, было возмутиться тому, что «двое поговорим по душам, один обязательно напишет в ЦКК», то ее тотчас же репликй подправил Арон Сольц, «совесть партии»: «Смотря о чем поговорят!» А затем А. Гусев подробно раскрыл партийное кредо: «Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем расходиться в политике, то вынуждены не только рвать нашу дружбу, но идти дальше – идти на «доносительство». (Ума не приложу, почему это слово заключено в кавычки). Донос и есть донос. «Ленин нас когда-то учил, - продолжал Гусев, - что каждый член партии должен быт агентом ЧК, то есть смотреть и доносить. Если мы от чего-то страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства».
Скоро, очень скоро дефицит недоносительства будет успешно преодолен. А сам теоретик доноса Гусев станет его жертвой…
Затвердилось на многие годы: донос исполнение партийного долга.
Пора возвращаться в тот страшный год и час. Отец ушел. Мать позвонила на квартру Богачева, помошника отца. Трубку взяла его жена.
-Ваня дома?
-Нет Вани.
-Вот и Михаила тоже нет.
Женщины с полуслова поняли друг друга.
-Приезжайте ко мне, посидим вдвоем, - предложила Лайма. Жена Богачева приехала с пятилетним сыном. Сидели вдвоем, курили. Зазвенел звонок. Вошли трое, предъявили ордер на арест Богачевой. А мать почему-то в ту ночь не взяли, только сделали обыск.
Потом станет известно, что арестовали также шофера отца и его охранника.
Через несколько дней, отправляясь в ссылку через Москву, мать поедет с тремя детьми: мной двухмесячным, четырехлетней сестрой и пятилетним сыном Богачевых. В Москве ее встретит бывший шофер отца Александров, работавший с ним в Калинне. По Каалинину он знал и семью Богачевых. Увидев их малого сына на вокзале, он предложил Лайме мальчика забрать. Так мальчишку миновала участь детей «врагов народа» - «спецдетдом». Ну а приемный отец имел за свой посупок неприятности. Его уволили со службы, приглашали на «беседы»…В 1941 году Александров ушл в народное ополчение и погиб.
Хорошие люди окружали отца. Мог бы еще привести здесь несколько примеров…
После ареста мужа,Лайма прожила в Воронеже еще несколько дней. К Сталину она уже не собиралась. Ждала чего-то? Надеялась? Наконец к ней пришли два сотрудника НКВД и предложили срочно…покинуть Воронеж. Лишь много лет спустя мать смогла по достоинству оценить этот героический шаг начальника Воронежского управления НКВД. Фамилию его она, к сожалению, не запомнила. Летом, уже в тюрьме она узнала, что он арестов
Очевидо начальник НКВД давал матери возможность скрыться от ареста, затеряться в наших бескрайних просторах. Но тогда ей и в голову не могло такое придти.
-Куда вы хотите ехать? – спросили ее энкеведисты. (Просто трудно поврить в такую галантность).
-Мне все равно, - ответила мать. А потом вспомнила, что в Рязани у нее есть бывшй сокурсник по «Свердловке». – Пожалуй, в Рязань. И что бы вы думали – ей разрешили. Лайма, понятно, поехала черз Москву. Там «сделала остановку» - поселилась в своей квартире в «доме на Набережной». (После выезда в Калинн и Воронеж за нашей семьей оставалась однокомнатная квартира – «на случай командировки в Москву»).
Моя законопослушная мать сразу же пошла «временно прописываться». Неожиданно ей предложили постоянную прописку. Увидев в этом добрый знак, Лайма решила информировать воронежских энкеведистов о своей остановке. Можно себе представить, как отреагировал на эту дурость начальник Управления. Ведь письму Лаймы с «входящим номером» полагалось срочно дать ход. А мать тем временем совершает очередную глупость – идет «сдаватьься» в райком партии. Там она рассказывает об аресте мужа и просит (напрашивается) «решить ее партийную судьбу». «Глупость» это, понятно, по сегодняшним меркам. По тогдашним – партдисциплина.
В райкоме хорошо знают и помнят Михайлова. Сочувствено охают, но тут же прдлагают сдать партбилет: даже без видимости разбора персонального дела секреталь РК «за потерю бдтельности» единолично исключает ее из партии. Лайма воспринимает это как должное, хотя непоколебимо верит в невиновность мужа.
Спрашиваю ее: «Ты что, чувстовала себя виноватой?»
«Нет, конечно! Но раз муж аестован, полагалось меня исключать».
Вот такая навыворот логика. Впрочем, следуя ей, она тоже исключала из партии других.
Ее подруга по рижскому подполью Гуна Руберт поступит точно также: после ареста мужа в Сталинграде немедленно помчиться из Москвы в Сталинград…исключаться. Секретарь райкма, видимо, желая уберечь ее от ареста, скажет ей: «Уезжайте, без вас тут разберемся!» Впрочем, вскоре Гуну арестовали, и она провела долгие годы в Калымских лагерях. Были арестованы и рсстреляны оба ее мужа: один крупный партийный работник, другой – крупный хрзяйственник…
Итак, свое исключение «из рядов» мать восприняла как нечто нормальное, естественное. Как и не удивилась она приходу в квартиру человека в штатком, который и не подумает представиться, предъявить документы. А просто сказал: «Поехали». И Лайма собирается и едет. Обращаю на это внимание потому, что еще неделю назад она свято верит, что «их, честных коммунистов» непременно минует чаша сия. И вот теперь твердокаменна большевичка, непоколебимо уверенная в честность своего арестованного мужа, не ипытывает вроде бы никакого потрясения. Что за характеры выковала революция в своих горнилах?
9. ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ
Мать везут на Лубянку.
Страшно было? – спашиваю ее.
Да что ты! Какой страх? У меня отобрали самое дорогое: партию
мужа, дома остались малые дети. Ты грудник. Через пару часов тебя кормить. Тут не до страха. Одна злость.
Мать, конечно же, еще не догадывается, что поисходит в страшшных подвалах Лубянки.
На Лубянке ее оставляют ждать в коридоре. Проходит пара часов – время кормления сына. Лайма решительно встает и отправляется искать своего следователя. Охранники преграждают ей путь, перекрещивая винтовки со штыками. Лайма прется на штыки. Возникает шум, появляется следователь и – о, гуманные органы! - Лайму везут кормить младенца. То есть меня.
И вот снова коридоры Лубянки, снова ожидание. Поздняя ночь. Мимо матери снуют люди в форме и в штатском, хлопают двери, за ними трещат телефоны. Ведомство работает с большой перегрузкой. И вот, наконец, ее вызывает следователь.
- Расскажите о контрреволюционной деятельности вашего мужа.
- Я могу рассказать о революционной деятельности своего мужа.
- Расскажите о троцкистской деятельности вашего мужа, - монотонно бубнт следователь. И Лайма также отвечает:
- Я могу рассказать о борьбе с троцкистами моего мужа.
Думаю, не надо объяснять, что не все жены вели себя подобным образом. Многие немедленно отрекались от своих мужей. Иногда «во имя идеи», иногда ради спасения себя, детей. Бог им судья.
Я знал женщину, которая рассказыала мне о своем заявлении в партком: «Прошу оставить меня в партии и на работе, чтобы я смогла воспитать своих детей в классовой ненависти к их отцу – врагу народа». Но отрчение не уберегло ее от тюрьмы, а детей от детдома. Может, в этом был Божий промысел - уберечь детей от ненависти к отцу?
В таком духе допрос продолжался долго, пока следователя не вызвало к себе начальство – очевидно были дела поважней. Вернувшись, он вручил Лайме предписание: немедленно ехать в ссылку. Тогда она не знала еще, что судьба отнеслась к ней милостиво. Как уже писал, жен крупных партработников ждала гораздо более жестокая участь: расстрел, тюрьма, лагерь. Мать склонна видеь в этом заступничество Маленкова. Может, когда следователь отлучался надолго и произошел судбоносный звонок из Кремлевской приемной. Жене Маленкова Лере мать, когда приехала из Воронежа в Москву, отправила письмо с единственной просьбой: не разлучать ее с детьми. Может, и впрямь Маленков вспомнил свои былые симпатии к Лайме и решился ей помочь. Но ведь и жену Бухарина – Ларису – поначалу отправили в ссылку. Палаческая машина из-за перегрузок иногда сбивалась с ритма.
Моя мать, как скоре увидим, все-таки не избежала ареста, Но и тогда ей неожиданно улыбнулось счстье. Правда, улыбка эта была чуть кривоватой…
И вот Уфа - место нашей ссылки. Как узнаем потом от Солженицына, это была будущая столица ГУЛАГА: с началом войны все руководство весесильного ведомства переберется в Уфу. Этот город надолго войдет в нашу жизнь, станет как бы моей родиной.
Свое уфмсимское житье-бытье я опишу в другой частивоспоминаний (кника вторая) . Пока же лишь приведу кое - какие эпизоды.
Матери с двумя малолетними детьми, да еще ссыльной, очень непросто было найти работу и жилье. Всех-то документов – справка: «Целмс Лайма Юльевна освобождена из-под стражи. Справка видом на жительство не служит».
Нашлась, было, комната рядом с железной дорогой. Но скоро оттуда пришлось выметаться: железная дорога – оборонный объект. Ссыльные не имеют право к ним приближаться.
Устроилась, было, мать в какую-то контору секретарем – машинисткой. Но через неделю начальник, посоветовавшись, где надо, уволил ее от греха подальше.
Неожиданно повезло – мать нашла на улице старую подкову. И сразу же все счастливо перевернулось: сняла жлье, поступила счетоводом в гортоп. У управляющего трестом была арестована жена, и он имел сочувствие к репрессированным. Что и говорить, опасное чувство по тем, да и не только по тем временам.
Жизнь помаленьку входила в свою колею. Мать получила письмо от давней подруги Арфенечки. Та сообщала, что приедет в Уфу через две – три недели. Арфенечка, в отличие от моей матери, нкого не стала извещать о своих передвижениях. Узнав, что муж ее Иван Пятковский арестован, она тот час же уволилась с работы, снялась с партучета…и была такова. И всех-то бегов – переехала с квартиры на квартиру, чего оказалось вполне достаточным, чтобы ее потеряли из виду. Масштабы арестов были такими, что органы давно сблись с ног.
И вот теперь Арфенечка должна была приехать в Уфу к своей ссыльной подруге.
Приехала она неожиданно раньше. Это опять было для всех нас счасливейшим перстом судьбы. Именно в день приезда подруги мать вызвали в Управление НКВД. У меня, годовалого была жесточайшая диспепсия, кровавый понос. Арфенечка с порога включилась в домашние хлопоты. Мать же отправилась в НКВД, пообещав скоро вернуться.
Но не тут-то было – Лайму арестовали. Понятно, что грудной младенец (я) не мог послужиь тому помехой. В тюрьму везли и беременных на последнем месяце, и совсем дряхлых стариков, и тяжело больных. Мамину приятельницу из Калинина арестовали при температуре 40. Как не вспомнить здесь яростное обличение Герцена, обрушенное им на головы жестоких тюремщиков в «кровавые николаевские времена»: «Полиция его (революционера – Г. Ц.) застала в постели, вести в часть его было невозможно. Его арестовали дома, поставив у двери спальной с внутреней стороны полицейского солдата, и братом милосердия посадила у постели больного квартального ндзирателя. Так что, приходя в себя после бреда, он встечал смущающий взгляд одного или испитую рожу другого». Вот уж воистину зверство – просыпаясь в собственной постели видеть рядом испитую рожу!
Вяло, явно без вдохновения следователь сказал матери, что ее «злодейское лицо выявлено».
Он предложил передать детей в детдом. Мать отказалась наотрез: дети у подруги! Вот оно наше с сестрой везение. Мне бы с кровавым поносом явно бы не выжиь в детдоме, сестре – потеряться навсегда.
На допросе Лайма поняла, что ее арестовали «по калининскому делу».
До этапа в Калинин мать поовела месяц в Уфимской тюрьме. Она научилась перестукиваться, а потом, много лет спустя обучиила тюремной азбуке и меня. Не дай Бог, чтобы это знание пригодилось, но оно в нашей стране никогда нелишне. 33 буквы алфавита разбиваются по шесть в ряд. Первый стук в стену – номер ряда, второй – буквы в ряду. Долго конечно. А куда в тюрьме торопиться?
В первые дни ареста мать не могла есть. От скудной пайки хлнба оставался кусок. Ее соседка по нарам была эсерка. Она скиталась по тюрьмам много лет. Недавно у нее был пересуд – эсерку приговорили к расстрелу. Она ждала исполненя приговора, но аппетита не теряла. Мать, встречая голодный взгляд соседки, долго раздумывала: имеет ли она право поделиться пайкой с эсеркой, со своим партийным врагом. Такие перегородки существовали среди политических долго, разъединяя их, лишая возможности оказать организованное сопротивление произволу тюремщиков и уголовников. Это уже потом, позднее, в сорокоых годах зеки, наконец, забудут про свои партийные мундиры и осознают, что им нечего делить.
Надо отдать должное моей матери – она все-таки сумела переступить через свой партийный предрассудок – поделилась хлебом с эсеркой. А потом приняла от своего «классового врага» кусочек сахара. Она уже знала, что на ночной допрос нужно идти, зажав в кулаке кусочек сахара – он помогал бороться со сном.
До Калинина мать везли в тюремном вагоне две недели. Тюрьма там находилась в здании Комерческого училища. Каждое время находит для зданий свое предназначение.
На первом же допросе следователь объявил Лайме: «Нам известно, что вы возглавляли контреволюционную организацию и готовили террористические акты на членов провительств, которые приезжали охотиться в Калининский заповедник». Мать высокомерно сказала, что для убийства членов правительства не было нужды поджидать их в лесу. «Все они останавливались у нас дома».
Расскажите о фашистской деятельности вашего мужа – изменил
угол атаки следователь.
От такого слышу, - дерзко ответила мать.
Дерзость почему-то постоянно сходила ей с рук, Мать уверена, что следователи сразу понимали – она их ничуть не боится. Может и так.
Заключенные постоянно перестукивались. Мать узнала, что в соседней камере сидит Гобданк, бывший заводелом обкома партии. Из вечера в вечер он стучал: «Сегодня я, Гобданк, на допросе уличил такого-то в его принадлежности к контреволюционной организации». Прослушав очередное донесение, мать, однажды, не выдержала – отстучала ему в ответ: «Почему же вы не разоблачили врагов раньше?». Она тогда еще не понимала всю глупость своего вопроса.
В Калининской тюрьме мать впервые узнала, что на допросах бьют, зверски пытают. Но ее, слава Богу, миновала эта участь. Опять счастливый перст судьбы?
Был у Лаймы и еще один характрный диалог-перестук. Соседняя камера долго молчала. Наконец ее обитатель вышел на связь. Это оказался Саша Брандин, бывший вожак Калининского комсомола. Узнав, что в соседях у него Лайма (а были они хорошо знакомы), Брандин стал стучать в стену: «Сегодня я признался, что вместе с Михайловым возглавлял контрреволюционную организацию».
Мать обмерла. Если такое признает Брандин, значит…
Не дождавшись от нее ответа, и, видимо, сообразив, что происходит в соседней камере, Брандин продолжал выстукиват: «Неужели ты не понимаешь, что это неправла?»
Поздно приходило к матери прозрение…
Брандин просил у Лаймы стекло, чтобы перерезать вены – терпеть больше муки он, видимо, уже не мог. Мать имела стелышко и знала, как осуществить передачу – за бачком туалета было известное зэкам место. Но она никак не могла на это решиться – все пыталась успокоить его, призывая держаться. Зря, наверное, все равно Брандина расстреляли. Меньше бы мучился.
Как уже не раз говорил, моя мать – неисправимый оптимист. Наверно поэтому ее тюремные воспоминания несколько выпадают из подобного жанра. Чаще всего ее память фиксировала комическое, а не трагическое. Например, в туалет женщин конвоировали лейтенанты. По сему поводу сложили озорную песню: «А молодые лейтенанты нас провожают в туалет…»
-Голодно было?- спрашиваю мать.
-Мне хватало. Я даже поправилась.
В следственных камерах тогда кормили лучше, чем в лагерях, но не до сытости же!
Сокамерицей матери оказалась учительница из Корелии, жена партработнка. Она дала показания на своего мужа и теперь горько расскаивалась. Но следователи уже вцепились в нее мертвой хваткой. Учительницу «ставили на конвейер» - допрашивая каждую ночь, не давая спать днем. То есть пытали бессонницей. И она оговаривала все новых и новых людей. Мать мою на конвейер не ставили. Опять повезло? Сама-то она уверена, что ей досталась особая участь в награду за смелость. Мол, следователь сразу понял, с кем имеет дело. Думаю, она хорохорится зря. И не таких людей ломали бессонницей. Но, правда и то, что следователи поднаторели в психологии своих подопечных. Когда, скажем, мать стали пугать карцером, она рассмеялась в ответ: «Разве можно меня напугать, когда самое дорогое у меня отняли? Мне терять нечего!» Не исключено, это произвело впечатление.
Удивительно, но мне легче, веселее как-то писать о нелегких вроде бы днях матери – тюрьма все-таки, сталинская тюрьма. Но вижу, как достойно она здесь себя ведет. А главное, перебралась уже с того проклятого берега на другой – туда, где собрались одни жертвы.
Похоже, и самой матери вспоминать свои тюремные денечки легче, чем те, что предшевствовали им. И твердокаменность ее здесь лишь украшает.
В новогодюю ночь Лайму вызвали на допрос. А она с товаркой только – только собралась гадать.
Оказалось, что предстоит очная ставка с Седовым. Седов работал начальником областного управления местной промышленности. Они хорошо знали друг друга.
-Расскажите о контрреволюционной деятельности Целмс,
приказали Седову. И он вдруг, вопреки разработанному сценарию, отчетливо произнес: «Ничего не могу рассказать о контрреволюционной деятельности Лаймы Целмс».
Спектакль сорвался. Седова увели. Мать вернулась в камеру, и с сокамерницей занялась гаданием. Процедура была такая. В алюминиевую миску с водой опускали бумажный караблик. К бортам миски прикладывали три записки: «тюрьма», «лагерь», «свобода». Вода раскручивалась пальцем и кораблик начинал свое плаванье. Где остановиться, там и сульба. Учительнице выпало «лагерь», матери – «свобода». И ведь сбылось! Правда свобода называлась ссылкой. Но все же. Правда, до этого еще надо было дожить...
Двадцать дней Седова «обрабатывали», после чего очную ставку с Лаймой повторили. На сей раз, Седов давал уличающие показания.
Когда-нибудь, верю, тайны архивов КГБ будут, наконец, преданы глассности. И историки, журналисты получат свободный доступ к делам репрессированных. Желая им успеха в работе, хотел бы предостеречь от скоропалительных выводов. Высказать это предостережение подтолкнула меня очная ставка Седова с матерью…
В свое время блистательная журналистка Лариса Рейснер, ознакомившись с протоколами допросов декабристов, написала обличающую статью. Декабристы в ней выглядели полными подонками, малодушными трусами, которые только и делали, что «кололись» наперегонки – топили на следствии друг друга. Лишь полвека спустя замечателный историк и писатель Натан Эйдельман показал нам своим исследованием, что все было не так просто. Часто, например, назывались фамилии людей, которые уже признались во всем. И потому бесмысленно было их выгораживать.
Вот и протокол очной ставки, о которой рассказываю, вполне может показать Седова в неприглядном виде. А ведь он держался мужественно, рисковал, спасая Лайму.
Например, Седов в деталях рассказывает, как Лайма Целмс вербовала его в контрреволюционную организацию.
-Где? – уточняет следователь.
-В своем отдельном кабинете, - отвечает Седов.
-Когда?
-В мае.
И мать вдруг осеняет – выручает ее Седов.
«Гражданини следователь, - заявляет она, во-первых, у меня не было отдельного кабинета; во-вторых, в мае я лежала в роддоме на сохранение беременности».
Конечно же, Седов хорошо знал и про отсутствие кабинета у Лаймы, и про то, что она в мае долго лежала в больнице.
Правды ради надо сказать, что далеко не все вели себя так благородно, как Седов. Но мать не затаила ни на кого обиды. После реабилитации, помню, она даже переписывалась с одним из тех, кто ее «уличал».
-Но это же беспринципно, мать, - упрекну я ее.
-Меня не били, а их били, - жестко ответит мать. – Я им не судья.
Сейчас невероятным кажется, что «протворечия в показаниях» Седова могли смутить следователей тех лет. Но здесь надо учесть, что Сталин сменил своих оберпалачей: во главе НКВД вместо расстрелянного Ежова стал Берия. С ним связан краткий период либерализации – Сталин очередным маневром обманывал земной шар. И матери опять повезло. Именно в эти денечки решалась ее судьба. Все и вышло, как показывало гадание…
Отправляясь вновь в уфимскую ссылку, мать несколько дней провела в Москве. Моя сестра, вцепившись ей в руку, не выпускала с утра до вечера - старалась продемонстрировать наличие матери всему двору. Я своих чувств, понятно, не помшю.
Отгостевав, мы все трое опять покатили в Уфу.
Бывшая квартирная хозяйка встретила мать совсем по-родственному. Оказывается, когда Лайму арестовали, она стучалась в эпкеведешые кабинеты, требуя сказать - куда дели ее жиличку? На радостях хозяйка пебежала резать единственного петуха. Вообще, сочувствия от простых людей выпало на нашу семью немало. Хотя было и другое. Помню, как в деревне Ельдак /куда нас отправили во время войны/, когда стали возвращаться раненные, мать с бабушкой, опасаясь погромов, закладывали нехитрой мебелью двери. Искалеченные войной люди, выпив, искали, на ком бы выместить свою злость и страдание. А мы были тут как тут, рядом - вражеские семьи. /Шесть ссыльных семей/. До серьезного, правда, не доходило. Но стекла в окнах высаживали и страху на детей и женщин напускали порядком.
Надо сказать, что в ссылке мать себя вовсе не ощущала социально ущербной. Изгнанная из партии, продолжала считать себя большевичкой.
Можно позлословить по этому поводу. Я не буду. Другой она быть не могла - такой уж характер.
Помню, в Уфе Лайма презрительно клеймила «обывателей», которые предпочитают не идти в первомайской колонне демонстрантов, а глазеть на нее с тротуара или из окна. Сама Лайма всегда старалась идти в первых рядах, демонстрируя всем и вся "мощь и солидарность трудящихся всех стран".
В дань выборов на избирательный участок Лайма стремилась придти первой. На заем из нашего нищенского бюджета выделяла максимум.
Предположить, что таким образом мать старалась показать властям свою лояльность, значит совершенно не понять ее.
В восьмидесятые годы родился штампик - "активная жизненная позиция". Так вот мать, будучи ЧСВР, продолжала проявлять такую позицщю на каждом шагу. Например, когда нас "досослали» в глухое село Ельдяк, она редактировала стенную газету в своей конторе. В газете клеймила всех лентяев, невзирая на лица. Раз крепко досталось начальнице отдела. Та подняла крик пэ весь район: «Враги народа травят жену фронтовика!». Разбираться приехал уполномоченный НКВД. Как-то все обошлось. В другой раз Лайма встала на защиту учительницы, мать которой, старуху Пинегину все считали ведьмой. За что и травили учительницу. Бабка Пинегина будто би по ночам превращалась в свинью. /Мы-то, дети, в этом были абсолютно уверена/. Мать поговорила с директором школи. Тот выслушал ее с поиимаиизм. "Мы с вами аттеисты, - доверительно сказал он. - Но вот вчера иду домой, а навстречу свинья. Огрел ее дрыном., а на утро Пенегина с поревязанной рукой». Директора раздирали противоречия, но входить в них Лайма не стала. Предложила немеддэиио прекратить контрреволюциониые разговоры. Словечко было страшиое - травлю учительница прекратили.
Помню разговоры матери и бабушки о том, что немцы вот-вот возьмут Москву.
-Если немцы придут сюда, - сказала мать, - все примем яд.
Не знаю уж, какой яд она имела в виду, но мне, малолетнему, было не раз вдолблено в голову, что керосин - яд, трогать его нельзя. Вот почему, видимо, в своих навязчивых детских снах я без конца пил керосин, и все никак не мог умереть. А немцы уже входии в дом. Страшнее снов у меня, пожалуй, не было.
В Ельдяке в порвую зиму все семьи "врагов народа" голодали - ведь огородов никто посадить не успел, Меняли на картошку вещи. Мать доменялась до того, что осталась зимой в летнем сарафане.
Прослышав про эти обмены, секретарь парторганизации колхоза Матвеева /надо же, до сих пор помню фамилию!/ стала ходить по домам и пугать местных жителей: вы помогаете врагам народа. Я, понятно, ничего этого не знал. И вот раз Матвеева, дело было весной, попросила нас, ребятишек, погрузить семенную картошку на телегу. Мы мигом накидали телегу с верхом. За что и были премированы: каждому досталась по четыре картошки.
Страшно гордый своей добычей, я принес четыре картофелины домой. Когда мать узнала, откуда они, то назвала меня предателем, а картошку вышвырнула на улицу. Мне, пятилетнему, понять тажое было невозможно, но свою детскую обиду я не забыл до сих пор.
Это, так сказать, еще один "штрих к портрету" моей матери.
Про то, что мать рыдала в день похорон Сталина, я ужа писал - это были первые ее слезы на наших глазах, Писал также, что мы с сестрой росли верными сталинцами. Но таковыми нас воспитывал не только дом и школа, но и даже хулиганская, беспризорная улица! Самые приблатненные из нас, лихо сплевывая через фиксу /желозний зуб - знак особого отличия/, клялись-божились: честнолеиинское - честносталинокое. Эта клятва была столь же нерушима, как «век свободы не видать».
Как-то раз с дружками-корешками, а было нам лет по семь-восемь, мы размышляли о тайне деторождения. Суть вопроса, естественно, была нам известна во всех деталях. Нас заделали родители, их в свою очередь, заделали дед с бабкой. Ну а первых-то людей кто? И меня вдруг осенило: Ленин-Сталин. Не помню, чтобы кто-то мне возразил.
Двадцатый съезд партии застал меня уже студентом. Не помню, чтобы разоблачение Сталина я тяжело пережил. Враз слетело все, что, казалось, крепко проросло в душе! Не было, выходит, там ничего подобного. Всего лишь зазубренной оказалась любевь к «отцу народов».
С матери, как ни странно, тоже достаточно быстро и безболезненно облетел ее сталинизм. Вроде бы чего удивляться - настрадались ведь от Сталина вдоволь. Но среди материнских подруг, бывших зэчек, немало осталось не изменивших Сталину до самой смерти. Так лагеря и тюрьмы их ничему и не научили. Смешно и грустно было наблюдать их встречу. Старушки с первых же слов яростно разделились: на сталинистов и антисталинистов. Началась чуть не рукопашная. Спохватились было - не виделись ведь столько лет - запихнули в рот валидол, попытались переключиться на детей и внуков. Не получилось. Политика снова затянула их в свой водоворот, и снова началась схватка. И опять, конечно, потребовалось глотать таблетки.
О житье-бытье в Ельдяке остались у меня самые светлые воспоминания. Это нормально. Люди редко с горечью вспоминают свои детские годы. Мой сослуживец Саша Никитин, например, не раз тепло и весело вспоминал свою жизнь в детдоме: отца его расстреляли в 37-ом, мать сидела в тюрьме.
Моя мать все годы верила, что еще увидит своего мужа. Симоновское «Жди меня, и я вернусь» она постоянно таскала в сумочке. Умер Сталин. Надежда ее усиливалась день ото дня. Мы с сестрой тоже жили ожиданиями. Я, признаюсь, ждал возможного появления моего отца с большой тревогой. Появится какой-то незнакомый дядька с бородой /я без конца рассмотривал фотографии/.
В 1954 году мать вызвали в Москву и вручили ей справку: "посмертно роабилвтпрован". О последних днях отца, как уже писал, я узнал из «Литературной газеты», где тогда работал.
Дело Михайлова, - как вспоминал следователь, занимавшийся реабилитацией отца, - представилось колоссальным некрополем. Все его участники: следователи, свидетели - все! - были расстреляны. Следователи, пытавшие Михайлова, Гатов М.Д., Глебов - Юфа З.И. - расстреляны через три месяца, в декабре 38-го. Руководитель следствием Ежов, лично избивавший Михайлова, тоже был расстрелян. Ясно, что смерть их настигла не за вершимые беззакония – Сталин убирал свидетелей своего злдейства. Не вот вдруг сказывается, что один из следователей все-таки уцелел.
Дальше в статье рассказывается весьма характерная история этого следователя по фамилии Нейман, ноторый в газетном материале назван Немовым. В 1938 голу Немов закончил школу. Он мечтал учиться дальне, но материальное положение в семье было тяжелым. Ему повезло: устроился экспедитором в Воронежском отделе НКВД, развозил почту... За один год личный состав отдела два раза менялся. Как-то новый начальник, третий уже по счету, вызывает Немова и ссбо: "Хотим назначить тебя следователем. Парень ты грамотным, из рабочей семьи, комсомолец. Пригляделись к тебе, бойкий, справишься". - "Я не умею". - "Научим". Немова аттестовали, положили ему зарплату, которая и во сне не снилась, дали паек, выделили кабинет и первого подследственного – «ярого врага советской власти», с которым уже "поработали". Новоиспеченный следователь оребел: этого "врага" он раньше видел среди руководителей области по большим праздникам, когда в колонне учащихся шел мимо трибун. И вот Михайлов заявляет ему, что предъявленные обвинения – «чушь собачья», провокация. Немов - Нейман исправно записывает, затем несет протоколы начальству: "Не виноват Михайлов, его оклеветали". «Оклеветали?!» Начальник вызывает Михайлова, затем - "опытных" следователей. И дюмонстрирует новичку эффективный метод дознания: Михайлова бьют, сажают в карцер, опять бьют и сажают в карцер, и на четвертый день подследствеиный соглашается давать показания о подготовке покушения на Сталина. Вот тебе, юный следователь, урок!
Думаю, Немов - Нейман все уроки усвоил хорошо. Сейчас он на заслуженном отдыхе, живет в Ленинграде – С.Петербурге. Хотелось бы его навестить. Естественно не ради мести. Он ведь видел моего отца в последние часы его жизни.
«…Протокол судебного заседания от 1 августа 1938 года состоял из 14 строк. Длилось заседание 29 минут. В тот же день Михайлова рсстреляли» (ЛГ за 1 июня 1988 г.).
Долгое время я не знал, где похоронен мой отец. Пока правозащитная организация «Мемориал» не закончила своих раследований. Были установлены крупнейшие расстрельные полигоны. В том чиле Бутово и «Коммунарка». «Куммунарку» рассекретели позже других. Это был спецобъект КГБ. Он до сих пор обнесен колючей проволокой. Именно там покоится прах моего отца. В тех же рвах, границы которых не установлены до сих пор, были зарыты трупы Бухарина, Зиновьева, Каменева, Тухачевского… Тысячи представителей высшей партийной, военной и хозяйственной номенклатуры. Некоторых расстеливали в специальных подвалах, некоторых - прямо у вырытых рвов. Палачи трудились без устали. Иногда приходилос в день расстреливать до 500 человек. Потом палачи шли в бывшую дачу Ягоды (теперь там монастырь) и выпивали ведро водки. Видимо даже их психика не выдерживала. Назову некоторые имена, которые удалось рассекретить журналисту Борису Сопельняку. Иван и Василий Шигалевы (братья), Александр Емельянов, Иван Антонов, Петр Маго, Эрнст Мач… Уверен, что придет время, и все эти люди будут известны…
Мать похоронена на старом рижском кладбище Матиса. Оно расположено в самом конце ул. Матиса (раньше называлась революционной). Другим своим боком кладбище примыкает к тюрьме. Такие вот символы окружали мамину могилу.
Матери моей повезло еще раз – она дожила до перестройки. Честно сказать, ей, человеку большевистской закалки вовсе не легко было принять все происходящие перемены, хотя она и старалась изо всех сил. Слава Богу, она не дожила до развала СССР и всего того, что за этим последовало. Не дожила до того, что ее дети уверовали в Бога. Но, что касается разоблачения сталинщины – было это для Лаймы в величайшую радость. А вот все подруги матери умерли в те годы, когда фигура Сталина снова зловеще замаячила на телеэкранах и в книгах. То в роли выдающегося полководца, то в роли непримиримого борца с оппозицией. Старики переживали это его второе пришествие очень болезненно: писали коллективные письма в ЦК, принимали гневные резолюции на партсобраниях при домоуправлениях. Впрочем, как уже говорил, единства в их рядах не было.
С 1985 г. до 1988, вплоть до самой смерти, мать с жадностью вырезала из всех газет материалы о сталинских преступлениях. Вплоть до самой смерти. Получилась порядочная папка. Тогда она и задумалась над вопросом: «Кака мы дошли до жизни такой?». Этот вопрос и сегодня не потерял своей актуальности…
Вот и вся история нашей семьи. Далеко не самая драматичная по тем временам, Каким будет ее продолжение? Очень хочу, чтобы дети жили лучше нас. Для того и решился на это покояние за отца. Впрочем, пора и раскаятся самому. Попытаюсь сделать это в следующей книге…
1998 год







