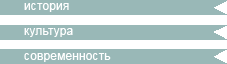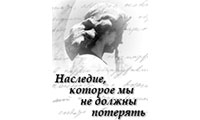ПОДВИГ СЕРЖАНТА
Алексей Ивлев
"Даугава" № 5, 2001
Сашу Сержанта Рига любит. Любит, а потом еще и деньги дает. Вот и сейчас дала... На персональную выставку "От язычества до распятия», еще в начале года разместившуюся на корабле-галерее «NOASS». А это значит, что не только Голландия и Германия, где проходили выставки Сержанта, но и Латвия творчество этого художника признает.
— ...а еще я был инженером, кинодокументалистом, галерейщиком, сторожем, писателем... Но делать все равно ни хрена не умею, — дополняет Саша.
Это он, конечно, из скромности. Потому, что он прежде всего единственный в своем роде актер-провокатор (но об этом речь впереди). Сержант лепил, лепит и лепить будет искусство где угодно и из чего угодно (из себя даже), пока живет. А может, и потом. Не зря ведь его привлекают всякие кости и шкуры, а на кухонном подоконнике в его квартире — самое наше дорогое — коллекция объедков... Сержант зорко следит за изменениями их цвета, запаха, вкуса. Ведет дневник наблюдений. При этом Саша никакой не некрофил, к жизни мертвой материи он относится исключительно как исследователь, и, естественно, философ.
То бишь, Саша — человек, что называется, с понтом... Значит, и талант его особый.
Его инсталляции на потусторонние темы напоминают нам о существовании шаманов и их миров, о Франкенштейне и Големе, о Страшном Суде.
— Что есть чучело? — спрашивает он, глянув в зеркало, — Предмет или нечто особое, отделенное игрой материи от миров мертвого и живого?
Поиск ответа на этот вопрос привел Сашу весной 96-го в Музей восковых фигур. Пришел туда он, конечно, не один, а со своей свитой-чучелами. Он их там заставил жить по-новому — напиваться, переодеваться и вообще шалить. То есть максимально воздействовать на людей — живых и восковых. Живым все понравилось, а особо то, что вошли и вы
шли в том же агрегатном состоянии.
Восковые остались при своем мнении.
Именно тогда Саша понял, что всякая имитация жизни может... нет, именно вос-принимается живым мозгом как архетип, тотем, идол.
Мысль пришла своевременно — осенью того же года чучела окончательно озверели и покинули мастерскую неизвестным науке способом.
 Остались только самые преданные: собака динго, филин и кабанья голова.
Остались только самые преданные: собака динго, филин и кабанья голова.Но Саша уже знал, что делать. Он начал лепить из воска и глины духов дорог, вод и ветров. Духи сопротивлялись, взрывались и растекались в лужи, но Сержант был неумолим! Налепил их великое множество, а тут и до выставки дошло.
Саша с духами разговаривает, флиртует, пугает. А иногда они его... И тогда бежит Саша куда подальше...
Есть среди них и дух Можайского шоссе, нынче Кутузовского проспекта, по которому предок Саши пришел с Наполеоном в Москву — самый добрый, вылитый Саша.
Его «Знаки Зодиака», похожие на сумасшедшие пельмени, есть не нарочитое антиремесленичество, как думают наивные искусствоведы. Главное в них не форма, а спонтанное содержание, суть — чистая магия. «Пельмени» очень даже соответствуют представлению культурно вменяемой части населения о жизни как о чем-то слепленном по случаю и впопыхах, в состоянии не совсем трезвом, без учета астрологических особенностей времени зачатия творения. Есть в педиатрии термин «дитя карнавала», применяемый к детям с дефектами, жертвам пьяных зачатий... Гля дя на этих глиняных уродов, нас посещает уж совсем бредовая мысль, что смысл работы Сержанта не сводим к созданию произведений искусства, но ко встрече со своим прошлым, к некоей коллективной прапамяти...
Сержант знает — если его духи оживут, грань между иллюзорной реальностью и бредовой сутью вещей окончательно рухнет и мы узнаем все... Подвиг Сержанта и его армии духов —в неслышном призыве увидеть этот новый мир...
Все же Сержант наделен непостижимой для меня способностью претворять свои планы в жизнь. Кажется, Толе-той сказал, что старики похожи на детей и тем, что не производят наследия, ибо живут как бы в вечности (или вне времени — точно не помню)... И это есть эмоциональность полного бескорыстия...
Сержант не ребенок и не старик, он занимается заведомо некоммерческими проектами, умудряясь при этом доставать деньги на их реализацию. Еще и на водочку остается. А фиг ли? Вот выставка своя — уже кайф, а если еще и выпить.... Вот тут-то и начинается, тут-то и понимаешь, что ничего не сделал на века... И срочно начинаешь вновь лепитьстругать, а то и брить кукол Барби, а то и к жизни пищевых отходов присматриваться просветленным оком...
Сержант многому научился у Олега Баусова и его театра «Тантрического секса». Вообще инсталляции Саши я воспринимаю только как театр, где роли распределены между предметами, а не актерами. То есть, предметы у него и являются актерами-духами. Иными словами, Саша нашел свой театр. Не это ли мечта каждого?
Чтобы яснее представить, что я имею в виду, расскажу одну театральную историю.
В театре «Синяя дверь» ставили сцену из бессмертной ибо бесконечной пьесы «Кришна, пастушки и Психиатр». В роли Кришны — Сержант, пастушек — все женщины планеты. Роль Психиатра досталась мне. Главная трудность — заставить Сержанта творить чудеса, то есть перевоплощаться в Бога.
Для начала Сержант принял чернильную ванну, ибо Творец Вселенной был синекож. Получилось, хотя и не без подкрашивания фломастерами и краской для штампов. Особенно убеждал цвет волос на спине, из рыжих превратившихся в зеленый металлик.
То есть, предварительная подготовка вхождения в образ никак не предвещала того, что в этот день я окажусь сопричастным одному из чудес театрального искусства. Точнее, нескольким чудесам.
Первое и самое поразительное — способность сцены создавать наряду с «реальной действительностью» новую, другую — «художественную», переносить в нее зрителя и делать его очевидцем и соучастником событий. При этом зритель испытывает те же эмоции, что и в реальной, настоящей жизни. Это происходит в первую очередь благодаря игре актеров... Умение играть — вот настоящее чудо! Его называют способностью перевоплощения, и эта способность, к слову, имеет прямое отношение к теории реинкарнации... Но это к слову...
Способность эта не равнозначна умению играть различные роли — в той или иной степени это умеет каждый.

Талант перевоплощения равносилен перерождению, то есть в определенный момент вы превращаетесь в совершенно другое существо, и не только «внешне», но и по своей природной сути. Пример: идет пьеса, в которой врач измеряет больному температуру. Через некоторое время больной возвращает термометр с репликой: «39,9». Градусник настоящий, а актер абсолютно здоров. Каково же артисту-врачу видеть эту температуру на градуснике! Сразу же после этой сцены мы вновь сбили градусник до показания минимума. Снова поставили Сержанту градусник. Текла краска. Сержант задыхался... Конечно, термометр показал 39,9. А спустя несколько минут — обычные 36,6.
Температура тела играющего Сержанта отразила степень его творческого перевоплощения. Между прочим, именно такое проявление актерского таланта превращает литературный образ в живого человека и придает сценическому действу правдоподобность. Камлающий шаман есть скорее дух, чем человек.
Вот и поэтому для меня Сержант — исключение из правил, и не только из тех, по которым здесь и сейчас может существовать художник. Он все же и прежде всего (может быть) слегка нетрезвый маленький талисман для этой самой Риги. Потому, что все мы родились рядовыми, а он уже в звании.
Потому, что важнейшим оправдание искусства является трагедия. Для Саши существует понятие Трагедии Духа, и воспринимает он ее как глубоко личную. А это немало.