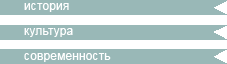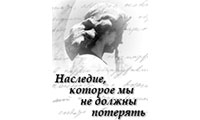«НАША НИНКА-АРТИСТКА!»
Элина Чуянова
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД/Родом из детства
Источник: журнал «Открытый город»
«НАША НИНКА-АРТИСТКА!».* Это прозвище Нина Ургант получила задолго до своих знаменитых ролей – от школьных друзей в Даугавпилсе, где она прожила почти 10 лет
…Когда звездный внук Нины Николаевны Ванечка Ургант недавно обронил в эфире, что его бабушка родом из Даугавпилса, сразу же захотелось: а) в сто пятый раз пересмотреть «Белорусский вокзал», б) отправиться во второй по величине город Латвии, где затерялись следы родоначальницы артистической династии Ургантов, и в) узнать, что конкретно ее с этим городом связывает. Программа-максимум удалась, в результате чего открылись любопытные факты из биографии народной артистки РСФСР Нины Николаевны Ургант. Например, такие:
* В Даугавпилс она попала подростком,
где вскоре пережила немецкую оккупацию, просидев в одном из подвалов…
* На Православном кладбище города
покоится прах ее матери – Марии Петровны Ургант…
* Школьные товарищи Ниночки прочили ей
карьеру артистки еще в далеком 1944-м году!
* Именно в Даугавпилсе случилась у нее первая большая любовь…
«В Даугавпилсе было страшно…»
Все киношные образы Нины Ургант, особо любимые зрителем, так или иначе замешаны на войне. Второй мировой или Великой Отечественной – кто как назовет. Роли сильные, глубокие, оставляющие рубцы в памяти – будто эта милая изящная женщина и в реальной жизни получала похоронку, вытаскивала раненых с поля боя и отправляла на фронт сыновей. А на самом деле война у Нины пришлась на отрочество, а отрочество – на город Даугавпилс. Ее «военные» роли потому и врезались в сердца жителей 1/6 части суши, что пережить ей, девчонке, пришлось немало. Свою войну она несет с собой по сей день, как чемодан без ручки: и тащить тяжело, и бросить – нельзя.
…Майор НКВД, обрусевший эстонец Николай Ургант, получил назначение в Латвию в 1940-м. Семья советского офицера, как водится, колесила по всей стране, и все его четверо детей – два мальчика и две девочки - родились в разных городах. Ниночка появилась на свет в 1929 году в Луге под Ленинградом. В этом городке исторически проживали колонии эстонцев, оттуда родом и дед Нины – чистокровный эст, там же ее отец Николай Андреевич женился на русской красавице Марии Петровне.
По приезде в Даугавпилс Ургантам дали целый этаж в роскошном особняке, но пожить там они почти не успели. Началась война. Отец сразу ушел на фронт. Почти сразу же в военной суете пропал старший брат, 14-летний Володя. Мария Петровна осталась одна с тремя детьми – Ниной, ей младшим братом Германом и грудной Галечкой. Так, в 11 лет, детство у Нины закончилось. Мама еще долго искала сына среди убитых, а Ниночка в отчаянии бегала в церковь: не зная молитв, падала на холодный пол и, как умела, просила Бога вернуть папу и брата. Оба вернулись с войны – недаром говорят, что детские молитвы самые сильные. Оказалось, брат вместе с отступающими советскими войсками уходил огородами, участвовал в боях...
«Немцы входили в город без единого выстрела, - вспоминает в своих интервью Нина Николаевна. – Они ехали на танках с черными крестами, машинах и трескучих мотоциклах, - сытые, довольные, - горланили песни и не обращали ровно никакого внимания на наших солдатиков, словно они были какие-нибудь муравьи. А наши воины метались в безумии, потому что не было никаких приказов – немецкая оккупация застала врасплох. Бегали наши ребятки по дворам со смешными винтовками: она один раз выстрелит и нужно снова закладывать патрон… В Даугавпилсе было страшно. Семьи не могли уйти за своими мужчинами и оставались в этом аду. Бедная моя мамочка стала кормилицей для всех нас, бралась за самую тяжелую, черную работу, чтобы выжить. Она работала в пекарне, грузила мешки с мукой и хлебом. Каждый раз после ночной смены она прятала за пазуху буханку теплого хлеба и приносила нам. Если бы ее поймали, расстреляли бы на месте.
…Я помню, что немцы в Даугавпилсе сами не занимались расстрелами. Грязную работу за них делали коренные жители, в основном латыши. У меня в памяти навсегда осталась картина, как один такой местный взял маленькую еврейскую девочку за ножки и разбил ее голову о телеграфный столб… От увиденного я потеряла сознание. И с нашей семьей жестоко расправились бы, если б узнали, кто наш отец…Но одна добрая женщина-дворничиха спрятала нас в подвале. Вся округа знала, что мы дети чекиста, но никто не выдал, не донес… Отчетливо помню постоянное чувство голода, которое сопровождало меня все военные годы. Иногда мы с товарищами бегали на чужой огород, где уже был убран урожай, чтобы собрать гнилую картошку, свеклу – из этого мама нам готовила какую-то еду».
Здесь птицы не поют, деревья не растут
Позже, на съемках военных лент, Нина вспоминала ужасы войны. Когда шла работа над фильмом «Я родом из детства», режиссер Виктор Туров предложил Ургант самой продумать сцену, в которой ее героиня получает похоронку на мужа аккурат в День Победы. У Нины Николаевны перед глазами сразу ожила война. Режиссер молча наблюдал за импровизацией актрисы, а ее героиня Люся не прлакала, не кричала, а просто шла с «треугольничком» в руке, не выбирая дороги - по поленнице дров, сложенных во дворе, - задыхалась, падала, вставала и снова шла, рискуя сломать ноги, - пока не рухнула «замертво». Этот эпизод занял всего несколько минут экранного времени, но стал одной из лучших ее работ, которая, впрочем, обошлась ей слишком дорого: от переживаний у Нины Ургант отнялись руки, она два месяца лежала в больнице.
Не менее трагичной оказалась и роль Анны Михайловны в картине «Сыновья уходят в бой» того же Турова, где она играла мать, потерявшей во время оккупации своих сыновей. И снова перед глазами поплыли «кадры» из даугавпилсского прошлого. Нина так вжилась в роль и так прочувствовала гибель своих киношных детей, что после съемок ее снова лечили – на сей раз от нервного срыва. Вот, война, что ты, подлая, сделала!..
Но самым культовым ее фильмом стал «Белорусский вокзал». Роль медсестры Раечки в фильме молодого режиссера Андрея Смирнова знают сегодня все. А тем более – песню Булата Окуджавы, блестяще исполненную под гитару Ниной Ургант. Она еле сдерживала слезы, пока пела, но Смирнов поставил задачу четко: «Плакать ты не должна. Пусть плачут мужчины». После фильма она крепко сдружилась с мужской «четверкой» - Анатолием Папановым, Евгением Леоновым, Всеволодом Сафоновым и Алексеем Глазыриным. Все они ушли в мир иной, а Нина Николаевна признается, что по сей день ощущает их мистическое присутствие в своей жизни: «Мальчики оберегают меня с того света».
Мало кто знает, что медсестру Раечку должна была играть Инна Макарова. Она была утверждена на роль министром культуры Фурцевой, более того - фильм с нею был уже снят! Но Смирнов уперся: только Ургант и точка. И настоял на своем. Позже Евгений Леонов сказал о Нине: «Приехала какая-то ленинградка, и наши звезды померкли…»
Верно, к тому времени она уже была ленинградкой. Но если бы знали ее дорогие «мальчики», что она и тогда, и сейчас продолжает в душе ощущать себя даугавпилсчанкой, не стесняясь признаваться в этом. Потому что, наверное, все мы родом из детства…
«Звезда» школы
- В школе все ею восхищались, - вспоминает бывший директор 2-й даугавпилсской восьмилетки Валентина Станиславовна Моисеева, которая училась на класс ниже Нины. - Она была нашей «звездой». В послевоенное время ни проигрывателей, ни телевизоров, радио - роскошь. Мы с мамой приехали из эвакуации, а у нас ни кола ни двора – все сгорело. А тут вдруг живая артистка в школе, живая музыка! Она во всех концертах участвовала, на гитаре играла и пела песни военных лет, а мы разинув рот смотрели на нее. Нина была живая, открытая, очень красивая, но простая, совсем без гонора. На фоне других очень выделялась. Одевалась эффектно, всегда подчеркивала ремешком тонюсенькую талию – фигура у нее была женственная, все на месте. А мы были угловатыми подростками, я так вообще в гимнастерке ходила. Нина вызывала у нас неизменный восторг еще и потому, что была отмечена талантом. Мы это хорошо понимали и были уверены, что у нее большое будущее. Так и называли ее – Нинка-артистка. Она действительно поступила в Ленинградский Театральный институт – представьте, девушка, из какого-то провинциального Даугавпилса! А желающих-то было море, да со всего Союза! Мы ею очень гордились. И поклонники за ней всегда ходили толпами. И не только школьные ребята, но и из Народного дома: на нее заглядывались, приглашали на все вечера. Она и там выступала в концертах, которые всегда шли после разных торжественных мероприятий и партийных активов.
- Она была звездой не только в школе, но и в городе, - говорит старинная подружка Нины Ургант Анжела Петровна Скаковская, которая много лет преподавала русский язык и литературу в Рижской 78-й средней (ныне Анниньмуйжской) школе. – Даугавпилс город маленький, все друг друга знали. У нас с ней была одна компания, но дружили мы не так, как сейчас, - все по парочкам, - а большой группой. Как-то не принято было и ходить друг к другу по домам. Но мы знали, что Нина живет недалеко от вокзала, на улице Алеяс. Зато мы гурьбой ходили на речку, на танцплощадку. У нее всегда с собой была гитара, и мы вечно что-нибудь пели. По правде говоря, душа пела, ведь только кончилась война, и для всех это была громадная радость, появились какие-то надежды на будущее. Даугавпилс был разрушен войной процентов на 70. Поэтому сначала наша школа находилась на улице Саулес, в жилом доме, а потом нас перевели в помещение нынешней 1-й гимназии: в первую смену она работала как латышская школа, а во вторую – как русская…
Из песни слов не выкинешь
Директор даугавпилсского Русского Дома Героида Ивановна Богданова рассказала, что после освобождения Даугавпилса от фашистов ее муж Иосиф вместе с Ниной и другими ребятами бегали выступать в госпиталь. Ургант пела, читала стихи – так, что мужчины не стеснялись слез.
Другая жительница Даугавпилса Ольга Владимировна Корнилова вспоминает рассказы знакомых о том, что в конце 40-х у Нины Ургант была «золотая» привычка, которую горожане очень любили. Она приходила к Дому единства, где до войны располагался Драматический театр, усаживалась на лавочку и начинала петь, аккомпанируя себе на гитаре. Сразу рядом с ней вырастала толпа – всем хотелось ее послушать.
Как сама Нина Николаевна не раз признавалась журналистам, училась она слабенько, на троечки. До войны только начальную школу окончила, а после Победы сразу в 7-й класс пошла – не возвращаться же в 3-й! Впрочем, по словам Ольги Корниловой, Нинина учительница по русскому языку Дебора Иосифовна Литвинова была очень снисходительна к детям войны, хотя и понимала, что у многих из них на всю жизнь останутся пробелы в образовании. Когда Литвинова еще жила в Даугавпилсе, Ольга Владимировна как-то спросила ее о школьных успехах Ургант. Та уклончиво ответила: училась, как все… Но самой Нине Николаевне до сих пор снятся сны, будто она стоит у доски и не знает урока - просыпается в холодном поту.
После окончания школы многие одноклассники Нины рванули в Ленинград. И она вместе с ними. Хоть и не могла претендовать на Политехнический, но документы туда подала вместе с ребятами. Другую копию аттестата отнесла в Педагогический, а еще одну, на всякий случай, в слесарную школу. По дороге попался Театральный институт. Она зашла в вестибюль, там стояла интересная женщина и курила «Беломорканал». Нина обратилась к ней: «Где тут делают артистов?» - «Вы опоздали, прошло уже два тура… А откуда вы?» - «Из Даугавпилса». Женщина изменилась в лице и тихо сказала: «Это и моя родина тоже». Землячка Нины оказалась педагогом Татьяной Григорьевной Сойниковой, которая набирала курс. Это удивительное совпадение решило ее судьбу. Впрочем, когда Нина читала перед приемной комиссией гоголевскую «Птицу-тройку», все рыдали от смеха. Зачислили ее исключительно за непосредственность. Дальше выезжать пришлось только на таланте и трудолюбии…
Первая любовь
- В студенческую пору я решила поехать в Ленинград, очень уж хотелось город посмотреть, - рассказывает Валентина Моисеева. – Меня встретил одноклассник Юра Овчаренко, который учился в Политехе. В Ленинградском педагогическом учились и школьные подружки Юлька Споле, Тоня Кошечкина, Майка Тарнопольская, а Нина – училась, по-моему, уже на 3-м курсе Театрального. И вот она со своей школьной «любовью» Ваней Козловым, а я с одноклассником Овчаренко – вчетвером пошли на концерт Клавдии Шульженко. Я была девушкой простой, неискушенной по части манер, а Нина уже была светской дамой. Ужасно захотелось в туалет, а как элегантно отлучиться, что сказать, я не знала. Нина сразу поняла, в чем дело и пришла на выручку: «Пойдем припудрим носики!» И я сразу подумала: как хорошо, что я Нинку встретила, иначе бы сквозь землю провалилась! Правда, в Ленинграде она была необычно грустной. Я еще тогда спросила у Овчаренко: «А что это Нинка такая грустная?» - «Да, видимо, ее уже Иван не устраивает», - ответил Юрка.
…На самом деле все было немного не так. На втором курсе Нина вышла замуж за своего однокурсника Льва Милиндера, который стал отцом Андрея Урганта. Лева брал ее измором: постоянно дрался с другим ее кавалером Гариком Остриным, обещал повеситься, если откажется за него выйти. Но как только добился своего, сразу стал изменять. Вскоре пара рассталась. Нина с маленьким сыном ушла жить в общежитие. Во второй раз Нина Николаевна вышла замуж за Кирилла Ласкари – сводного брата Андрея Миронова. 7 лет брака и снова ошибка: Ласкари даже срезал люстры из общей квартиры. «Мои мужья были прохвосты, обирали меня, - смеется Нина Николаевна. – Да, в общем, и я была хороша – жила только своей работой. А мужьям хотелось уюта, горячих обедов…»
А мальчик из Даугавпилса Ванечка Козлов, пока учился в Ленинграде, был рядом с ней – как верный Санчо Панса. Любил Ургант всю жизнь. Он занимался запуском ракет и позже признался ей, что однажды, когда что-то пошло не так и взорвалось, первой его мыслью было: «Неужели я больше никогда не увижу Нину?»
Но самое интересное, что «Открытому городу» удалось найти воспоминания того самого Юрия Овчаренко, тоже даугавпилсского парня, который потом стал ученым одно закрытого атомного производства. Вот что он пишет:
«С Ниной Ургант мы учились в одной школе в латвийском городе Даугавпилсе, а потом поехали поступать в Ленинград. Нина сначала подала документы в Политех, а потом зашла в Театральный. Ее красота пленила приемную комиссию: фигура рюмочкой, личико – загляденье. Она и платья всегда носила такие, чтобы подчеркнуть осиную талию – в 50-е это считалось особым шиком. Два студенческих года мы были с Ниной не разлей вода. Но постепенно я все больше прозревал относительно своей дальнейшей судьбы, знал, что буду работать на закрытых объектах. Сами понимаете, какая может быть карьера у артистки в Загорске-7. Поэтому мы расстались с Ниной добрыми друзьями. А через год я женился. Моей избраннице никакие Загорски были не страшны».
Вот так поворот! Кто же тогда был первой любовью Нины Ургант – Ваня или Юра? А, может быть, еще кто-то третий?..
Приветы из прошлого
В Даугавпилсе знаменитой пекарни «Митрофанов и Сын», где при немцах работала Мария Ургант, уже нет. Она находилась на Рыночной площади и принадлежала предкам известного латвийской правозащитника и бывшего депутата Сейма Мирослава Митрофанова. Теперь на этом месте стоит многоэтажный отель «Латгола». Но старожилы до сих пор помнят вкус довоенных митрофановских баранок. В 1940 году фирма «Митрофанов и Сын» была национализирована Советами. А немецкая оккупационная власть так и не вернула национализированные предприятия в Латвии их владельцам. В 1941-1944 годах пекарня работала на немцев, но к Митрофановым она уже отношения не имела.
А вот могилу Марии Петровны Ургант на городском Православном кладбище мы нашли – благодаря замдиректора Даугавпилсского Краеведческого музея Людмиле Жильвинской. Место захоронения матери Нины Ургант оказалось неухоженным, железная ограда выломана и, вероятно, сдана как «цветмет». Кто-то, приходя навестить своих умерших по соседству, кладет цветы и на могилу матери артистки. Дата ее смерти – 1962 год…
«Порой задумываюсь, любила ли я когда-нибудь по-настоящему? – откровенно замечает Нина Николаевна. – Ответ получается не очень утешительный. Мне кажется, что я не испытывала сильных чувств ни к одному мужчине. Всю мою страсть, всю мою любовь забрала профессия. Ради нее я могла бросить всех мужчин на свете. И не только мужчин… Никогда не прощу себе, что из-за спектакля не успела попрощаться с умирающей мамой. Она все смотрела на часы и ждала меня… Я приехала только на следующий день, когда она уже умерла, так и не дождавшись меня…»
- Последняя наша встреча была где-то в конце 70-х, - говорит Валентина Моисеева. - Нас, директоров даугавпилсских школ, повезли на семинар в Ленинград. Мы с Иоськой Богдановым были ответственными за сувениры. Повели нас в Александринку. И тут вдруг оказывается, что главную роль в спектакле «Ивушка неплакучая» играет Нинка наша Ургант. Мы взяли свои сувениры и всей толпой в антракте пошли к ней за кулисы. Нас не пускают: мол, она должна отдохнуть, ей опять на сцену выходить. «Скажите, что ее друзья из Даугавпилса хотят видеть». Эти слова оказались волшебными. Она тут же выбежала к нам сама, потащила в гримерку. Обнимает нас, целует, в глазах слезы. И все время ойкает: «Ой, как хорошо, что вы зашли», «Ой, ну надо же какие молодцы!» Все-таки Даугавпилс для нее был родным городом, в нем навсегда осталась ее душа…
Фамильные анекдоты из жизни
* Однажды Иван Ургант позвонил Нине Николаевне и говорит:
- Нинуля, поздравляю тебя с новым рождением!
- Ваня, ты что, у меня день рождения еще не скоро.
- Бабушка! У меня родилась дочь – Нина Ургант!
* Часто к Нине Николаевне на улице подходят люди:
- Ой, мы так любим ваших сыновей!
- Каких сыновей?
- Андрея и Ивана!
- Так Иван – это же внук! (Про себя: «Хорошо же я сохранилась»)
* Нина Ургант и певица Людмила Сенчина – соседки по даче. Они дружат, и Нина Николаевна даже назвала свою любимую кошку Люсей. Однажды кошка с дачи пропала, и Ургант побежала ее искать. Не чуждая виртуозно-непечатных форм русского языка, она кричала на весь поселок: «Люська, трам-тарарам, ты куда запропастилась, проститутка этакая?» На что одна из соседок любезно спросила с крыльца: «Вы Людочку Сенчину ищете?»